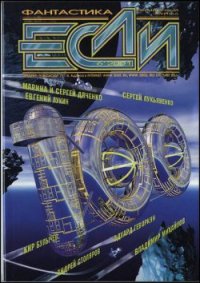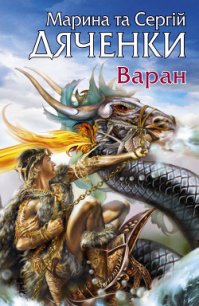Журнал «Если», 2000 № 07 - Дяченко Марина и Сергей (версия книг TXT) 📗
Однако же сохранился этот эпизод в памяти; значит, он на самом деле был для меня важнее, чем я думал: неважное для судьбы, пусть и яркое, забывается скорее.
Стихи снова начал писать лишь после того, как мне стукнуло шестнадцать. С тех пор писались они долго, но небольшими дозами. Смешно, но именно от стихов идет исчисление моего литературного стажа: от первой публикации, а это были именно стихи — в мае 1948 года. Я тогда бредил Маяковским, и стихотворение было посвящено его памяти. Появились мои строчки в рижской газете «Советская молодежь». Помню, что мне было очень стыдно идти за гонораром, хотя величина его превышала мою стипендию и деньги были более чем кстати. Стыдно потому, что поэзию я считал делом высоким, чуждым всего мирского.
Где мои тогдашние девятнадцать лет?..
Как писал Вийон: «Но где же прошлогодний снег?»
Годы — начиная с 1945-го — проходили для меня уже не в Москве, а в Латвии, по большей части в Риге. Там жила многочисленная родня по отцу. Были еще живы его родители, у меня оказалось с полдюжины дядей, теток, были и двоюродные братья и сестры, со временем их еще прибавилось. Русские старообрядцы — а именно к ним моя родня принадлежит — ушли из России в Латгалию (тогда это была Польша, потом она стала частью России, а после революции вошла в состав Латвии) еще во времена Алексея Михайловича — от никонианской реформы, и жили там поколение за поколением, храня чистоту веры и многие архаичные черты языка. На некоторое время они меня приютили, но сами жили довольно бедно, так что выкручиваться дальше пришлось самому. Этим я и занялся.
Несостоявшиеся поэты (а порой и очень состоявшиеся), потерпев поражение, обращаются к прозе. Естественно, эта мысль не обошла и меня: я ведь помнил, что должен стать писателем. Уверенность моя в этом оказалась настолько незыблемой, что я вовсе не спешил броситься к письменному столу (которого, кстати, у меня и тогда, и еще много лет потом не было). Писать было некогда, надо было выживать, потому что вследствие и уже упомянутых, и других, здесь не затронутых обстоятельств я с шестнадцати лет оказался на собственном иждивении. Писать можно было и завтра, а вот есть что-нибудь хотелось каждый день. Да и потом, в мире было великое множество интересных дел, и мне хотелось испробовать себя и тут, и там. Почувствовать вкус жизни.
Окончив школу, я работал, правда, недолго, помощником мастера по вязальным машинам на Рижской чулочной фабрике. Потом поступил в университет, на юридический факультет. Почему я пошел туда, а не подал заявление на отделение журналистики — до сих пор не совсем понимаю. Наверное, все-таки потому, что мне всегда хотелось романтики, и я считал, что найду ее в профессии сыщика. Зато помню совершенно точно, почему не попытался поступить в Литературный институт: тогда я полагал, что туда попадают только совершенные и несомненные гении. А на гениальность я не претендовал даже в том возрасте, для которого это является естественным.
Так или иначе, на юридический я был принят. И зачислен, как ни странно, не на русский поток первого курса, а на латышский. Причиной послужил интерес к языкам, который был у меня тогда и остался по сей день. Оказавшись в Латвии, я с первого дня старался понять и запомнить хоть какие-то слова. Мне казалось противоестественным — жить среди людей и не понимать их языка.
Я принялся исправно ходить на лекции и, понятно, ничего не понимал. Однако, как сказано, капля камень точит. Слово за словом — я стал разговаривать, пусть поначалу и коряво. На курсе, похоже, считали, что я заслан туда властями, и относились ко мне спокойно-вежливо. Зимнюю сессию я сдавал по-русски. А уже весеннюю первого курса на латышском — через пень-колоду. Чем свободнее я обращался с языком, тем лучше относились ко мне и преподаватели, и коллеги: когда люди чувствуют серьезное и уважительное отношение к их языку, они перестают относиться к тебе, как к чужому. Большинство из нас этого так и не поняло.
Правда, продержался я на факультете недолго. Но ушел сам, и по совершенно другим причинам. Тогдашней стипендии в 220 рублей в месяц на жизнь не хватало. Я начал искать работу. Знакомый студент предложил вместе с ним работать помощником истопника в школе. Работа была вечерняя, а после нее школьные кухарки кормили нас остатками от школьных обедов. Но эта работа была временной — пока настоящий помощник то ли болел, то ли взял отпуск. Он вернулся, и пришлось искать регулярную работу. В результате, к концу второго курса, нашел ее: стал техническим секретарем районной прокуратуры. Совмещать ее с обязательным посещением лекций было невозможно, и я подал заявление на перевод меня в экстернат.
В то время я уже ходил в литературную консультацию при газете «Советская молодежь» — со стихами, конечно. О первом опубликованном опусе я уже упоминал. Но это продолжалось недолго: я успел проработать секретарем менее полугода, как меня вызвали в прокуратуру республики и предложили повышение: ехать помощником прокурора в один уезд (тогда в Латвии существовала еще уездно-волостная структура, которую независимая Латвия унаследовала от царских времен) или народным следователем (так тогда называлась низшая следственная должность) в другой. Следователем, конечно же, следователем! Тем более, что уезд этот граничил с Рижским, а центр его — Елгава, прежде — Митава, город, не раз упоминающийся в истории — находился в сорока километрах, и туда, кроме поезда, можно было добираться и на автобусе.
Это, конечно, не было обычной практикой: назначить технического секретаря следователем. Но в прокуратуре, где я работал, вскоре увидели, что я серьезно интересуюсь делами. И решили, что я способен работать.
Следователи не пишут ни законов, ни приговоров; лишь обвинительные заключения. А если и возникали сомнения в том, что за попытку украсть буханку хлеба или килограмм масла виновный должен получать пятнадцатилетний срок (по Указу от 04.07.47), то на работу они не должны были влиять. И все же наибольшее удовлетворение от работы я получил однажды, когда (после длинного, тягомотного доследования дела, возвращенного судом) удалось все-таки доказать невиновность подследственного и виновность в расхищении других людей — тех, кто пытался засадить его на двадцать лет, его бывших руководителей.
Думаю, что если бы моя следовательская жизнь продолжилась сколь-ко-нибудь значительное время, противоречия во мне между необходимостью соблюдать закон и нередким сознанием его неадекватности привели бы не только к душевному разладу, но и к служебным неприятностям. Но юридическая карьера моя закончилась довольно скоро: я не успел проработать и года. Меня призвали в армию. Прокурор, которому моя работа нравилась, вызвался поговорить с военкомом, чтобы меня не призывали. Я отклонил предложение. Уж если мать моя в свое время с винтовкой за плечами шагала в пехоте против Деникина, то мне (полагал я) послужить и сам Бог велел.
Правда, литературные мои дела тем самым откладывались еще на годы. Но я был по-прежнему уверен: это от меня не уйдет, так что спешить некуда.
Теперь, по прошествии многих лет, могу сказать: в этом я был, скорее, не прав.
До того мне казалось, если книга уже возникла в голове, то осталась чистая техника: сесть и переписать на бумагу. Благо, стучать на машинке я научился еще в бытность свою техническим секретарем. И только начав, я понял, какая пропасть пролегает между головой и рукой, которой приходится все то, что пока существует в виде образов, порой достаточно неясных, преобразовывать в слова.
Это тяжело и до конца неосуществимо даже в принципе: каждое слово — ступенька, как и каждое число — тоже ступенька. Но если между числами существует множество промежуточных ступенечек — десятые, сотые, миллионные, миллиардные доли, так что лестница цифр может быть почти превращена в пологую поверхность, то между словами такое перетекание из одного в другое невозможно. Поэтому слова никогда не передадут того, что существует в форме образа, со всей точностью. Но даже чтобы приблизиться к ней, нужно использовать множество слов. А рука этого не хочет. Рука поначалу была бы согласна обойтись лексиконом Эллочки-людоедки. Она от природы ленива. И чтобы она не подсовывала вам, изображая на бумаге, первое попавшееся, плавающее на поверхности слово, ее нужно долго дрессировать. Разрабатывать, Расписывать. Рука важна для литератора не меньше, чем для пианиста или скрипача. В идеале она должна быть проводником с нулевым сопротивлением. Иногда она такой и становится — тогда говорят о вдохновении или просто о том, что «текст вдруг попер». Но для этого ее нужно сначала выдрессировать. И, как всякая дрессировка, процесс этот требует времени. Вот почему всем, кто когда-либо спрашивал моего совета, я старался внушить: нельзя терять времени. Оно ограничено, его надо использовать по возможности полнее…