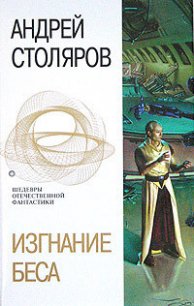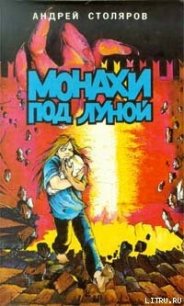Цвет небесный - Столяров Андрей Михайлович (читать книги без регистрации txt) 📗
— Не ем сладкого. Ты же знаешь.
— Я себе, — сказал Климов.
Разгрыз коричневую каменную плитку. Шоколад был горький.
Кафе находилось в подвале. Немытое окно, забранное толстой решеткой, едва высовывалось из тротуара. За треснувшим стеклом безостановочно ходили ноги — в ботинках и в сапогах, потом опять в ботинках и опять в сапогах. Казалось, что людей нет: бесчисленные ноги — от ступней до колен — как заведенные, самостоятельно разгуливают по городу.
— Эту экспозицию повезут в Англию, — сказала она. — По культурному обмену. Я скажу Сфорца. Он позвонит в Комиссию, и тебя возьмут. Они побоятся с ним ссориться.
У Климова плеснулся кофе.
— С ума сошла, — сказал он.
Она беспощадно улыбнулась.
— Ничего, время от времени их следует ставить на место. Пусть помнят: без Сфорца они ничто.
Климов выпрямился.
— Мне с барского плеча не надо.
— От него не примешь?
— Нет.
— Гордость — оружие нищих, — процитировала она. — Денег ты тоже не взял.
С откровенной насмешкой оглядела его сильно потертое пальто. Верхняя пуговица болталась, грозя отлететь. На рукавах просвечивали белые, разлезающиеся нитки.
— Ты видела мою «Реку»? — резко спросил Климов.
— Ты так и не женился? — сказала она. — Тебе надо жениться. Все будет иначе.
— Ты обязана ее посмотреть.
— И еще тебе надо устроиться на нормальную работу. Например, оформителем. Хочешь, я найду? Твердый заработок и все прочее…
— Не лезь в мои дела, — с тихим бешенством сказал Климов. — Я тебя прошу — раз и навсегда.
Она покивала — ладно.
Да, она, конечно, видела картину. Это хорошая картина. Может быть, действительно лучшая у него. Нет, она ничего не забыла. Дом был старый. Бревна в три обхвата: в дождь они пахли гниющим деревом. И крыша — латаная-перелатанная. Там не было электричества. Оказывается, еще сохранились такие места, где нет электричества. Хотя — сама хозяйка не хотела. Да, она помнит хозяйку — такая смешная старушка, перевязанная платком. Девяносто лет. Ей предлагали провести электричество, а она отказалась. Хотела, чтобы все было, как прежде. Многие не хотят перемен. Я тоже не хочу перемен. И умывальник был во дворе. Бр-р-р… Выбегали к нему утром, в рассветный холод. Хозяйка сама носила воду — за километр. В девяносто лет таскала полные ведра. А вода была невкусная — очень пресная, отдающая железом. От нее скрипели волосы. Темнело рано, и вечерами сидели при керосиновой лампе. В наше-то время. Где она только доставала керосин. Сначала нравилось — этакая таинственность, полумрак, погружение в прошлое. Но как надоело потом. Безумно надоело. Этот тусклый и вечно колеблющийся свет. Нельзя пройти по комнате — длинные тени начинают плясать по стенам: стекло в лампе разбито. Невыносимо раздражало. Невозможно читать, даже смотреть трудно — болят глаза. Удивительно, как это писали при свечах. Река была рядом, через луг. Напрасно он поменял название. Соня — гораздо лучше. Конечно, не в смысле женского имени, а — сонная, ленивая. Она еле текла. Омуты были подернуты ряской. Но вода не коричневая, как в болоте, а прозрачная до самого дна. И дно чистое, песчаное. Из омута действительно торчала коряга, черная и скрюченная, будто рука водяного. Может быть, здесь и водились водяные, могли же они где-то сохраниться. Почему бы не здесь? Место подходящее. За день вода прогревалась и вечером была как парное молоко. Но прозрачная. В самом деле похоже на густой воздух. Не хотелось вылезать. Она сказала: «Только не надо подробностей. Я тебя очень прошу — без подробностей». Да, она помнит. Была ночь, и звезды, как сливы, сияли в воде. И плавала луна — в черноте, под самой ивой. Будто неведомая рыба. А на лугу колыхала серебряными метелками сухая, высокая трава. И был от нее сладкий запах. И одурение. И если лечь на спину, то небо казалось звездной рекой, текущей в темных, загадочных, древних, травяных берегах. Жалобно и протяжно кричала какая-то птица, и от крика веяло ночным одиночеством. И по верху трав полз слабый ветер, и шелест его был как заклинание на священном, жестоком, давно умершем языке.
Она допила кофе, посмотрела на донышко. Подпала на Климова ясные глаза.
— Этого никто не поймет. Только ты и я. Больше никто.
— И пусть, — сказал Климов.
— Ты же не можешь писать для меня одной, — сказала она.
— Могу.
Он знал, что — может. И она знала. Поставила вдруг задребезжавшую чашку:
— Не бойся. Это не больно.
— Иди ты к черту, — сказал Климов.
— Честное слово. Ты даже ничего не почувствуешь. Я пробовала. Я сразу отдала ему все, что умела. Это вроде гипноза. И никаких последствий. Все-таки Сфорца — врач.
— Врач?
— А ты не знал? Он психиатр в прошлом. Отличный психиатр. Не бойся. Будет просто легкий обморок. Потеряешь сознание минуты на три, на четыре — всего один сеанс.
— А потом я повешусь, или сойду с ума, или стану инженером.
Она очень аккуратно погасила сигарету, посмотрела в окно на безостановочно ходящие ноги.
— Ну и подумаешь. Из тебя получится неплохой инженер.
В самом деле. Что тебе терять? Ты не художник. Ты, наверное, сам это знаешь. Сфорца и не покупает художников. Зачем ему чужое мироощущение? Он покупает только ремесло. Технические навыки. Ты умеешь делать небо. И ничего больше. Ладно. Он покупает твое небо. Вольпер делал хороший штрих и не чувствовал цвета. Ладно. Он купил его штрих. Посмотри, что из этого стало: он написал «Бурю». Я отдам вас всех за один мазок на этой картине. Он не крадет. И не пользуется чужим. У него просто нет времени. Он поздно начал. Ему бы начать на десять лет раньше. Он работал врачом. Он был изумительным врачом. К нему записывались за год. Ему платили любые деньги. Потому что он вытягивал самые безнадежные случаи: полных идиотов — из мрака, из хаоса, из ниоткуда. У него был метод. Совершенно неожиданный. Никто даже не подозревал, что можно подойти с этой стороны, а он подошел. У него десятки статей. Он мог защитить докторскую — по совокупности. Ему давали клинику. Ты не смотри: он старый. Он просто молодо выглядит. Когда он пришел к Ялецкому, ему было уже тридцать семь. Он следит за собой. Потому что художник должен жить долго. Чтобы успеть. Ты прав. Вернее, не ты, а тот, кто сказал. Ведь какая мука — не успеть. Знать, что — можешь, и упасть с разорванным сердцем за какие-то метры до финишной ленточки. Он всю жизнь хотел писать. У него были способности. Так сложилось, что он пошел в медицину. И завязалось тугим узлом — намертво. Потому что там — люди. И они должны жить. Он не мог уйти. Кем это нужно быть, чтобы взять и уйти от больных, которые даже не понимают, что они больные — чувствуют мир по кусочкам, цепенеют в ужасе, если раздастся громкий звук, или по-детски восторгаются при виде горящей спички. Когда он, наконец, вырвался, ему было тридцать девять. Ты этого не поймешь — в тридцать девять лет начать жизнь с нуля. Гоген стал писать в тридцать пять. И успел. Хотя мы не знаем. Может быть, как раз не успел. Не сказал главного. И, погибая на крохотном острове, посреди океана, под яркими южными звездами, в смертной тоске, галлюцинируя, видел это несказанное — единственный из всех людей на Земле знал, что уносит с собою целый мир, который уже никто не увидит никогда больше.
Она взяла Климова за руку. Сильно сжала. Заглянула в глаза.
— Я прошу тебя. Отдай ему небо. Я тебя никогда ни о чем не просила. Сколько тебе нужно? Скажи любую цену. Деньги не имеют значения, только — время. Он к ним равнодушен. Он все оставил семье. Он два года работал дворником и жил в тесной комнатушке. В закутке. В четыре утра он поднимался и сгребал снег с тротуаров, а потом писал до полуночи. Окоченевшими пальцами. У него суставы распухали. Ему до сих пор больно сгибать. Но через два года он понял, что не успеет. Постановка техники съест у него десять лет. А у него не было десяти лет. И он не хотел тратить целый год, чтобы овладеть каким-то штрихом. Он хотел получить его сразу, за полчаса. Потому что не штрих определяет. И не твое небо. Главное