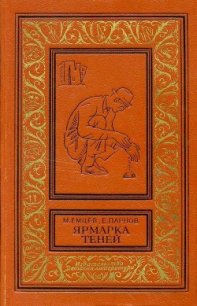Море Дирака - Емцев Михаил Тихонович (читать книги регистрация TXT) 📗
Не вставая с кресла, старик извлек откуда-то грязный граненый стакан и фаянсовую кружку с отбитой ручкой.
— Больше посуды у нас, кажется, нет… Впрочем, может, молодой человек не будет? — Он выжидательно уставился на меня.
— Да, профессор. С вашего разрешения, я лучше откажусь.
— Ну и великолепно! То есть я хотел сказать, что очень жаль. Но не смею настаивать. Не смею… Держите кружку, Силис.
Он быстро плеснул в кружку и медленно и осторожно наполнил стакан до краев.
— Можете вылить остатки. Хватит на сегодня. Пора приниматься за дело… Или… уж лучше сразу покончить с этим. Тем более что больше у нас ничего нет. Разлейте, Силис.
— Нет, профессор. Вы сказали — вылить. Будьте последовательны. «Eppur si muove!» [А все-таки она вертится!] Видите, какая воронка? Кориолисово ускорение.
Профессор сосредоточенно смотрел, как Силис выливает водку в форточку. Она вытекала беззвучно. Все заглушал шум дождя.
— Вы безжалостный ученик, Силис. Никогда вам этого не прощу. И не надо слов! Не надо… Помогите мне лучше подняться, идиот. Пусть ваши дети отплатят вам тем же. Видит бог, как вы издеваетесь над старым учителем. Я же отец вам, Силис. Неблагодарный вы щенок. Ой! Проклятый радикулит! Проводите меня к роялю. Мне нужна нервная разрядка.
Он сел за рояль, морщась от боли.
— Откройте его, студент. Нужно превозмочь недуг. У меня совсем распухли пальцы. Все соли. Откладываются на костях и откладываются. Если не разминать, бедные пальцы совсем перестанут сгибаться. Боюсь, что библия не врет про жену Лота, обратившуюся в соляной столб. Простое преувеличение клинических симптомов подагры. Я по себе это чувствую. Быть мне соляным столбом. Почем у нас нынче соль, Силис? Я завещаю вам мои отложения. Для вас ведь нет ничего святого.
Он тронул клавиши и долго прислушивался, как глохнет в пыльных углах звук. Потом заиграл. Сидел он неподвижно, не склоняясь к инструменту и не разводя широко рук. И узкий диапазон звуков был под стать дождю и скудному свету.
Падали льдинки, дробились и таяли в черных водокрутах дымящейся среди заснеженных берегов реки. Темная стынущая вода вбирала в себя последний свет короткого дня и копила его в глубинах, копила. А холод высушивал застекленные белым матовым льдом лужи, в которых цепенели прелые дубовые листья. Но кто-то наступал вдруг ногой, и лед трескался сухо и звонко.
И была окраска — две чередующиеся высокие ноты. Не нарастая и не упадая, плыли они под затянутым белесой мутью небом, напоминая чем-то переливы домского органа. А дождь за окном хлестал ветки. Они бились в стекло, обреченные, мокрые. Листья дрожали под ударами капель. Грустная мокрая зелень без света. Это зелень веков на куполах.
Мне сделалось вдруг зябко и бесприютно. Надо мной гулко шумели высокие своды соборов. Каменные плиты отбрасывали эхо, и оно умирало в звонницах. Дождь хлестал в зеленую черепицу готических шпилей. Влажный, заплаканный ветер врывался сквозь выбитые витражи, и совы рыдали под черными балками колоколен.
Но были чисты эти звуки. Они рассыпались шариками в математические фигуры. И я поспешно искал законов, чтобы выразить их смутную суть, торопясь перед закатом этого иллюзорного мира. Да, я искал уравнений, вобравших в себя смерть, и судьбу, и неизбежное расставание. Но рушилось все у меня в мозгу. Я не поспевал за музыкой, мне не удавалось догнать ее, задержать хоть на мгновение. Так мы несемся по жизни, и никогда нам не остановить время. Оно всегда чуть-чуть впереди. И не надо протягивать руки. Мы не успеваем. Оно уносится вперед…
Профессор неожиданно перестал играть и уставился на окно. В небе появились проталинки анемичной голубизны.
— Вам знакома эта вещь? — Он повернулся ко мне, и уголки его рта желчно опустились.
— Я плохо знаю музыку. Может быть, это Бах, или Мендельсон, или Хиндемит.
— Случайно попали. Бах. — Он кивнул головой, и обрюзгшие щеки его обозначились еще резче. — Messa h-moll. Эти пьесы написаны для органа и большого оркестра. Синтез полифонии и контрапункта… Но не в том суть. Вы можете и не знать Баха. Совсем не обязательно знать Баха. Но… могли бы вы передать хоть часть тех ощущений, которые испытывали, слушая музыку? Или вы ничего не испытывали?
— Сейчас мне кажется, что мог бы. Я представлял себе это очень ярко.
— Что представляли?
— Музыку, которую вы играли.
— Это же абстрактнейшая вещь! — искренне удивился он.
— Все равно были какие-то картины… Не сюжетные, нет, скорее олицетворение. Такой метафорический сгусток. — Мне было трудно выразить свою мысль.
— Нечто вроде теории символов, — шепнул профессору Криш. — Может быть, именно здесь и заложен мост? Символ эмоции сначала рождает информацию о ней, а потом информационный пакет становится эмоциональной производной. Как вы думаете?
— Об этом потом, — оборвал его профессор и, наставив на меня распухший, изуродованный палец, спросил, точно хлестнул бичом: — Вы знаете кабалу?
— Что-то читал об этом, но… Нет, не знаю.
— И я тоже не знаю. И знать не хочу. Но мне нужен кусочек пергамента с каббалистическими письменами. Дайте мне его.
— Н-но у меня же нет…
— Есть. Вы об этом не знаете, а мы знаем… Как меня зовут?
— Что?
— Я спрашиваю вас, как меня зовут.
— Господин профессор Бецалелис. — Я вспомнил предупреждение Криша и уже ничему не удивлялся.
— Вот именно, Бецалелис. Бе-ца-ле-лис! А о Леви ибн-Бецалеле вы слышали?
— Нет. Никогда.
— Очень жаль. Возможно, я его потомок. Он Бецалел, а я — Бецалелис. Великий каббалист рабби Леви ибн-Бецалел, говорят, жил в конце шестнадцатого века в Праге. Он создал из глины великана — Голема и вдохнул в него жизнь при помощи куска пергамента, исписанного именами ветхозаветного бога. Голем всесилен. Для него нет ничего невозможного. Но он полностью покорен воле своего создателя. Он может творить добро или зло. Я хочу, чтобы он сделал людей лучше. Но как сделать людей лучше? Нужно облегчить их жизнь, и они станут добрее. Накормить и одеть их, избавить от тяжелого труда, и у них появится досуг для чтения моралистов, тяга к наукам и искусству. Для этого я и создал своего Голема… А может, мне это только так кажется? И создал я его из-за одного лишь любопытства, которое всегда толкает исследователя к чему-то непознанному, а порой и к недоступному… Лягушку к змее тоже, возможно, толкает любопытство исследователя. Но я о другом. О моем Големе. Я создал его, но у меня нет волшебного пергамента. Как вдохнуть в него душу? Продайте мне вашу тень, достопочтенный Петер Шлемиль. Я должен оживить Голема… Короче, вы согласны быть моим сотрудником? Точнее, нашим сотрудником: моим и доктора Силиса?
— Простите, господин профессор, я, конечно, хочу, очень хочу, но я никак не разберу, где кончается сказка… Не пойму, где начинается шутка. Вы это всерьез, господин профессор?
— Это серьезно, Виллис. Абсолютно серьезно. — Криш резко повернулся ко мне, смахнув с рояля на пол очередную стопку книг.
— Что вы делаете, сумасшедший? — вскрикнул профессор. — Это же альдины, настоящие альдины! Вы хоть знаете, что такое альдины?
— Простите, профессор. Я нечаянно. — Он нагнулся и стал осторожно собирать с пола пропыленные томики. — Я знаю, что это очень ценные издания… Такие с дельфином вокруг якоря. Пятнадцатый век.
— Пятнадцатый! Шестнадцатый! Это же целое состояние! Я достал их, чтобы проститься с ними. Им цены нет. — Он трепетно и нежно погладил корешок. Но придется продать их, Силис. Она ведь пожирает столько денег!
— Нет, профессор. Не надо. Лучше я продам свою маленькую яхту. Знаете, эту голубую красавицу? Четыре рекорда! За нее дадут хорошие деньги.
— А что вы себе думаете?! И яхту придется продать и штаны тоже. Она съест нас! Съест вместе с потрохами и с этим молодым человеком, если он не раздумает идти к нам. Но, как говорил мой отец, дай бог ей здоровья, лишь бы не болела… Вы можете оживить ее, Петер Шлемиль?