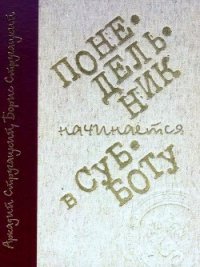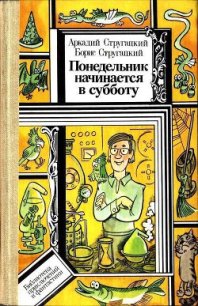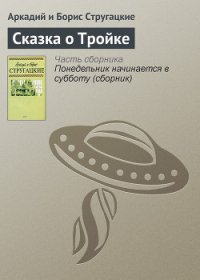Понедельник начинается в субботу. Повести - Стругацкие Аркадий и Борис (читать хорошую книгу полностью txt) 📗
Стою я в нерешительности и вдруг слышу сзади — голоса. Близко. Можно сказать, рядом. Ну, думаю, кажется, влип. Захлопнул дверь, зубы стиснул, оборачиваюсь. Переднему по горлу и — в сад, думаю, а там ищи меня, свищи…
Но оказалось, что это не парашютисты. Выворачивает в коридор из-за угла какой-то человек с тележкой, с этакой платформой на колесиках. Я засунул руки в карманы и этакой ленивой походочкой двинулся навстречу. Коридор широкий, разминемся спокойно. А он уже близко со своей тележкой. Глянул я на него — змеиное молоко! — черный! Мне сперва даже показалось, что у него вообще головы нет, потом, конечно, присмотрелся и вижу: есть голова. Но черная. То есть вся черная! Не только волосы, но и щеки, уши, лоб, а губы красные, толстые, белки глаз так и сверкают, и зубы тоже. Это с какой же планеты его занесло сюда такого? Я прижался к стене, уступая дорогу изо всех сил — проходи, мол, не задерживайся, только не трогай… Не тут-то было. Конечно же, он вместе со своей тележкой останавливается около меня, ослепляет меня своими белками и зубами и хриплым нутряным голосом произносит:
— По-моему, это типичный алаец…
Я сглотнул, киваю.
— Так точно, — говорю. — Алаец я.
И он начинает говорить со мной по-алайски, но уже не хриплым басом, а приятным таким, нормальным голосом — тенором или, я не знаю там, баритоном.
— Ты, — говорит, — наверное, Гаг. Бойцовый Кот.
— Так точно, — говорю.
— Ты, — спрашивает, — из Центра сейчас?
Ну что я ему отвечу?
— Н-никак нет, — говорю. — Я сам по себе…
Я уже разглядел его и вижу, что человек как человек. Ну, черный… Ну и что? У нас на островах голубые живут, и никто им в нос не тычет. Одет нормально, как все здесь одеваются — рубашка навыпуск, короткие штаны. Только черный. Весь.
— Ты, может быть, Корнея ищешь? — спрашивает он.
Участливо так спрашивает. Совсем как Корней.
— Вид у тебя какой-то взъерошенный, — спрашивает он.
— Да нет, — отвечаю я с досадой. — Это я вспотел просто. Жарко тут у вас…
— А-а… Так ты бы мундир свой снял, что ты в нем преешь… А Корнея ты пока лучше не ищи, Корней сейчас занят до предела…
Чисто так говорит по-алайски, грамотно, и выговор у него такой столичный, с придыханием. Стильно говорит. Ну, объясняет он мне что-то про Корнея, где сейчас Корней и чем он занимается, а я все поглядываю на его тележку и, честно вам скажу, ребята, ничего уже не слышу, что он там мне говорит.
Значит, так. Ну, тележка — она тележка и есть, не в тележке дело. А вот на этой тележке лежит у него громадный, вроде бы кожаный мешок. Кожаный и снаружи как бы маслом облитый, коричневый такой, вроде как куртка бронеходчика. Сверху он, значит, гладкий, без единой морщинки, а внизу весь какой-то смятый, весь в бороздах и складках. И вот там, в этих самых бороздах и складках, я еще в самом начале заприметил какое-то движение. Сначала думал — показалось. Потом… В общем, там был глаз. Оторвите мне руки-ноги — глаз! Какая-то складка там раздвинулась тихонько, и глянул на меня большой круглый темный глаз. Печальный такой и внимательный. Нет, ребята, зря я в этот коридор сегодня пошел. Оно конечно, Бойцовый Кот есть боевая единица сама в себе и так далее, но все-таки о таких встречах в уставе ничего не говорится…
Стою я, держусь за стенку и знай себе долблю: «Так точно… Так точно…» А сам думаю: увези ты это от меня, в самом деле, ну чего ты здесь встал? И понял мой черный, понял, что мне надобно передохнуть. Говорит хриплым басом:
— Привыкай, алаец, привыкай… Пойдемте, Джонатан.
А потом по-алайски нормальным голосом:
— Ну, будь здоров, брат-храбрец… Эк тебя скрутило. Да не трусь ты, не трусь, Бойцовый Кот! Это ведь не джунгли…
— Так точно, — сказал я в сто сорок восьмой раз.
Блеснул он своими белками и зубами на прощанье и двинулся с тележкой дальше по коридору. Поглядел я ему вслед — змеиное молоко! — Тележка-то катится сама по себе, а он рядом с ней вышагивает сам по себе, совсем отдельно, и уже раздаются опять голоса: один, значит, хриплый бас, а другой нормальный, но говорят они уже оба на каком-то неизвестном языке. И на лопатках у этого черного надпись полукругом: ГИГАНДА. Хороша встреча, а? Еще одна такая встреча, и я в собственные сапоги прятаться начну. «Привыкай, алаец, привыкай». Не знаю, может быть, я когда-нибудь и привыкну, но в ближайшие полста лет вы меня в этот коридор пряником не заманите… Досмотрел я, как они в этот склеп втиснулись, захлопнули за собой дверь, да и пошел от этого поганого места. Держась за стену.
С этого самого дня стало у нас в домике тесновато. Валят валом. Через нуль-кабину прибывают по двое, по трое. По ночам и особенно под утро от «призраков» в саду сплошной мяв стоит. Некоторые вываливаются прямо из чистого неба — один в бассейн угодил, когда я утром купался, тоже устроил мне переживание. И все они к Корнею, и все они галдят на разных языках, и у всех у них дела, и у всех срочные. В холл выйдешь — галдят. В столовую придешь пищу принять — сидят по двое, по трое, кушают и опять же галдят, причем одни поели — другие откуда-то приходят… Я на это просто смотреть не мог: сколько они хозяйского добра даром переводят, хоть бы с собой приносили, что ли… Неужели не понимают, что на всех не напасешься? Совести у людей нет, вот что я вам скажу. Правда, надо им все-таки отдать справедливость. Все-таки мешков среди них с глазами я больше не заметил. Были среди них, конечно, довольно жуткие экземпляры, но чтобы совсем уж мешок — нет, таких больше не было. И на том спасибо. Я день терпел, два терпел, а потом от этого нашествия, честно скажу, ребята, просто сбежал. Возьмешь с утра Драмбу — и на пруды километров за пятнадцать от этого постоялого двора. Я там пруды нашел, роскошное место, камыши, прохлада, уток видимо-невидимо…
Конечно, может быть, я поступил неправильно, смалодушничал. Наверное, я должен был там среди них ториться, подслушивать там, подсматривать, мотать на ус. Но ведь, ребята, я же старался. Сядешь где-нибудь в уголке в гостиной, рот раскроешь, уши развесишь — ни черта не понять. Галдят на непонятных языках, чертят какие-то кривые, мотают друг у друга перед носом какие-то рулоны голубой бумаги со значками, один раз даже карту империи вывесили, битый час по ней пальцами ползали… уж казалось бы, чего проще — карта, а так я и не понял, чего они друг от друга добивались, чего не поделили… Одно я, ребята, понял: что-то у нас там происходит или вот-вот должно произойти. Потому весь этот гадючник и зашевелился.
Короче говоря, решил я предоставить инициативу противнику. Разобраться в обстановке я не умею, помешать им никак не могу, и остается мне рассуждать примерно так: раз они меня здесь держат — значит, я им зачем-то нужен, а раз я им нужен, то что бы они там не затевали, а рано или поздно ко мне обратятся. Вот тогда мы и посмотрим, как действовать. А пока будем на пруды ходить, Драмбу муштровать и ждать — может, что-нибудь подвернется.
И между прочим, подвернулось.
Как-то раз иду я на завтрак. Смотрю — за столом Корней. И притом один. Я последние дни Корнея редко видел, да и то вокруг него всегда народ толокся. А тут сидит один, молоко пьет. Ну, поприветствовал я его, сажусь напротив. И странно мне как-то стало — соскучился я по нему, что ли? Тут все дело, наверное, было в его лице. Хорошее у него все-таки лицо. Есть в нем что-то очень мужественное и в то же время, наоборот, детское, что ли? В общем, лицо человека безо всяких тайных умыслов. Такому и не хочется верить, а веришь. Разговариваем мы с ним, а я все время себе напоминаю: Осторожно, Кот, другом он тебе быть никак не может, не с чего ему быть другом, а раз он не друг — значит, враг… И тут он вдруг говорит ни с того ни с сего:
— А почему ты, Гаг, мне вопросов не задаешь никогда?
Вот тебе и на — вопросов я ему не задаю. А где мне ему вопросы задавать, когда я его целыми днями не вижу? И что-то мне так горько стало, и ужасно захотелось сказать ему прямо: «А чтобы вранья поменьше слушать, друг лукавый». Но я, конечно, этого не сказал. Пробормотал только: