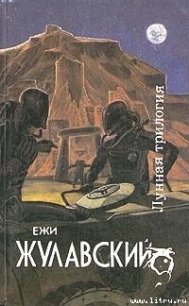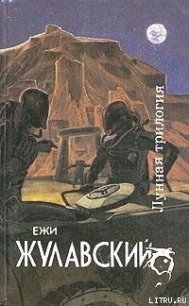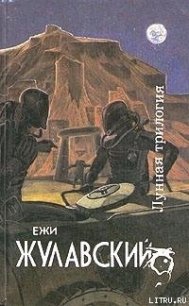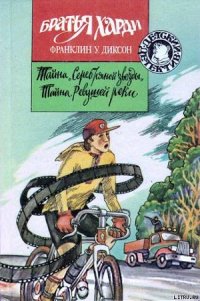На серебряной планете (Рукопись с Луны) - Жулавский Ежи (книги .TXT) 📗
А снаружи тем временем становилось все светлее. Испарения, недавно еще серые, теперь проплывали за окнами, подгоняемые ветром, будто легкие белоснежные призраки. Временами пар клубился, заслонял свет, временами вытягивался в длинные колеблющиеся тени, которые внезапно возникали, склонялись, словно в поклоне, у окон и двигались дальше. Сквозь их полосы виднелись снежные поля и увитые облачками пара жемчужные колонны гейзеров, а дальше, над ними, на фоне бледно-голубого неба высилась вершина Отеймора, уже порозовевшая в первых лучах солнца.
Марта спросила о детях, но услышав, что они спят, не велела их будить.
— Пускай спят, — шепнула она, — я еще их увижу… прежде, чем Солнце взойдет. А сейчас хорошо, что так тихо…
Потом повернулась ко мне:
— Ты всегда будешь их опекать, ведь правда?
— Буду, — сказал я, и горло мне сдавили слезы.
— И не оставишь их никогда?
— Нет.
— Клянешься мне?
— Да. Клянусь.
Она протянула мне руку.
— Добрый ты, друг мой, — шепнула она. — Я умру спокойно, зная, что ты о них не забудешь.
Я схватил ее руку и страстно прижал к губам. Ее пальцы слегка дрогнули, словно хотели сжать мне руку. От них веяло уже таким холодом, что даже мои горячие губы не могли их согреть.
— Я хотела тебе еще сказать перед смертью, — заговорила она, помолчав, — что ты… был мне дорог. Из-за этого я корила себя больше, чем из-за того, что была женой Педро… Может быть, если б я стала твоей, а не его, я бы еще жила…
Она говорила все это тихим, гаснущим голосом, а во мне вдруг разразилась буря. Я зарыдал, как малое дитя, и в беспамятстве покрывал ее руку поцелуями, бормоча сквозь слезы бессвязные слова любви, так долго таившиеся и освобожденные лишь сейчас — перед лицом смерти.
Марта слегка склонилась и положила другую руку мне на голову.
— Успокойся, — говорила она, — успокойся… Я знаю… Не плачь… Так лучше, как получилось… Ты был мне дорог своим благородством, своей любовью к Тому… я даже сама не знаю, чем… а, несмотря на все, я, может, плохо к тебе относилась бы, если б ты встал между мной и тем единственным, кто имел на меня права. Ну, успокойся, не плачь. Теперь уж ты знаешь. Я думаю, Томас меня простит, что я это чувствовала и что сказала об этом тебе в час своей смерти… Я была так несчастна.
Она замолчала, обессиленная, а я, спрятав лицо на ее груди, весь дрожал, сотрясаемый подавленными рыданиями. Но она заговорила вновь:
— Пускай уж… признаюсь тебе во всем. Все равно я в последний раз говорю с тобой… В тот полдень…
Она вдруг замолкла, словно внезапный стыд, не отступивший даже перед смертью, перехватил ей горло, но я знал, о каком полдне она говорила!
Марта помолчала, едва шевеля губами, а потом с неожиданной силой, поднеся ладони к вискам, выкрикнула:
— Почему ты не убил Педро?!
И в эту минуту я услышал сдавленный стон. Было в нем нечто такое страшное, что я невольно вскочил и обернулся. В дверях, опираясь рукой о косяк, стоял Педро, бледный, как труп, и смотрел на нас широко открытыми глазами. Должно быть, он уже давно там стоял и слышал все, что Марта мне говорила. Когда он заметил, что я увидел его, он сделал несколько неуверенных шагов вперед и пробормотал что-то невразумительное.
Марта с подавленным криком отвращения повернулась лицом к стене.
— Простите, — простонал Педро, — простите, я невольно… Я не хотел…
В это время в соседней комнате раздались голоса и топот.
— Дети! — закричала Марта и протянула руки.
Но девочки, оробев, остановились у порога, и только Том припал к ней, а она охватила его голову дрожащими руками и прижала к себе.
Педро посмотрел на это и шагнул ко мне.
— Ты обещал ей, — он кивнул на Марту, — помнить обо всех детях… обо всех! одинаково…
Прежде чем я, пораженный этими странными словами, успел ответить, его уже не было в комнате.
Сквозь пляшущие за окном испарения пробивался солнечный луч, превращая верхние стекла в кусочки сверкающего золота, и пронизывал светящимся снопом душный воздух комнаты. Марта лежала неподвижно, глядя угасающим взором на полосу солнечного света, которая все ниже соскальзывала по стене и, словно ангел, нисходящий с небес, плыла к ее изголовью. Девочки на цыпочках приблизились к постели и с изумлением смотрели на бледное, застывшее лицо матери.
Душно мне было, на губах я ощущал едкую горечь. Этот наступающий день шел ко мне как безжалостная, мучительная насмешка, ибо я знал, что вместе с ним начнется пустота и неотступные думы о прошлом. Минуты проходили в молчании…
Внезапно Том вскрикнул:
— Дядя! Дядя! Я боюсь! Мама так страшно смотрит!
Я повернулся: солнечный луч, упав на подушки, освещал лицо Марты, застывшее, мертвое, но еще глядящее на Солнце остекленевшими глазами.
— Ваша мама умерла… — каким-то чужим, сдавленным голосом шепнул я детям, которые теснились у постели, перепуганные и удивленные. Потом наклонился, чтобы закрыть глаза Марте.
В эту минуту раздался грохот выстрела. Я метнулся к двери: Педро лежал в соседней комнате на полу с пробитым виском и дымящимся револьвером в руке.
Я зашатался на пороге, как пьяный.
Сейчас они оба уже лежат в могиле. Я сам оказал им последнюю, посмертную услугу — завернул их тела в большие, сотканные из растительных волокон и пропитанные смолой саваны и своими руками отнес их в лодку, которой предстояло везти их на Кладбищенский остров. В лодке рядом с трупами и со мной сидело четверо детей. Трое старших примостились возле тела Марты. Том, ошеломленный и напуганный зрелищем смерти, молча сидел у ног матери, Лили и Роза цеплялись за саван и с плачем звали маму, будто требуя материнских ласк, на которые она поскупилась при жизни. Педро все покинули. Только младшая девочка подползла к нему и, гладя покрывающую его грубую ткань, тихонько шептала:
— Бедный папа, бедный…
Печальной нашей поездке сопутствовала чудесная погода. Солнце, еще невысоко поднявшееся над горизонтом, заливало золотистым светом огромный, спокойный, чуть подернутый мелкой рябью от легчайшего дуновения ветра морской простор, на котором смутно рисовались вдали острова, утопающие в прозрачной голубой дымке. И никогда прежде я не ощущал так живо и так болезненно эту безжалостную и ужасную иронию, которая таится в красоте природы, одинаково равнодушной и к радостям, и к страданиям человека. Ведь в этой лодке были со мной трупы двух последних человеческих существ, которые вместе со мной прибыли на эту планету и знали, как и я, родную мою Землю; я вез их, чтобы положить в склеп, для меня самого предназначенный, и потом остаться навсегда одиноким, а Солнце светило спокойно, прекрасно и великолепно — совсем так же, как в детстве, когда я беззаботно играл в его сиянии на той, далекой от меня сейчас планете.