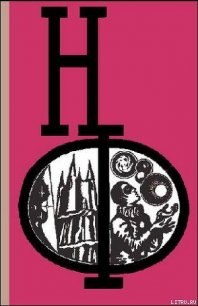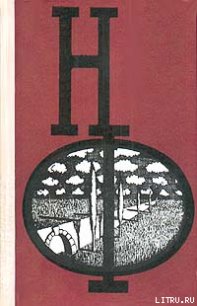НФ: Альманах научной фантастики. Выпуск 25 - Парнов Еремей Иудович (читать книги полные TXT) 📗
— Это просто уму непостижимо! — говорит он. — Идем по прекрасной ровной дороге, и вдруг он лезет в эту… выгребную яму!
— Чутье у меня, ты можешь это понять или нет? Чутье!
— Хорошенькое чутье!
— Вот дурак очкастый. — Проводник хлопает себя по коленям, с него ссыпаются ошметки присохшей грязи.
— Мое зрение это не ваше дело. И вообще — хватит. Глупо.
— Не глупо. А тебе жердью этой надо бы промеж ушей! Дай сюда бутылку… Это надо же — из-за пары грязных подштанников чуть в рай не отправился.
— Какие подштанники? — спрашивает Писатель.
— Ну что там у него в мешке? Ну, консервы…
— Какие к черту консервы! Не мог я его отцепить, не мог! Я бы потонул, пока его отцеплял, черт вас всех дери!
— Ладно. Хватит… — Проводник поднимается и, наморщив лоб, оглядывает местность. — Куда же это нас занесло? Место какое-то незнакомое… Вот ведь сволочь Дикобраз — ничего у болота не указал, а там что-то определенно есть… Может быть, конечно, уже потом появилось, после него…
— Кстати, — подает голос Профессор. — Дикобраз — единственный человек, который дошел до того места?
— Других не знаю.
— А были такие, которые шли, но не дошли? — спрашивает вдруг Писатель.
— Были и такие. И я ходил, да не дошел.
— А зачем они шли? — спрашивает Профессор.
— Кто зачем… В основном за деньгами, конечно. Ты думаешь, я не знаю, зачем ты идешь? Хочешь скажу? В экспедицию тебя не взяли, вот ты и решил им всем доказать. И правильно! Понимаешь? Свои личные дела поправить, открытие какое-нибудь сделать, чтобы все ахнули. Вот, мол, оказывается, Профессор-то у нас какой, дать ему Нобелевскую премию!
— Ну, а вы? Вы зачем идете?
Некоторое время Проводник неприязненно молчит.
— У меня дела свои… семейные.
— Как у Дикобраза? — тихонько спрашивает Профессор.
Проводник резко поворачивается и смотрит на него, но Профессор лежит с закрытыми глазами, покойно сложив руки на груди.
— Ты меня с ним не равняй, — произносит Проводник угрожающе. — Ты его не знал, в глаза не видел, и меня ты не знаешь. Так что нечего нас равнять.
— Никто никого не знает, — говорит Профессор, не открывая глаз.
— Да бросьте вы в самом деле! — с раздражением говорит Писатель. — Никто никого не знает, видите ли! Тоже мне — бином Ньютона! Семейные дела у него… Проигрался на скачках, дома жрать нечего, работать не хочет, потому что сроду был люмпеном… а насчет спиртного мы весьма даже повадливы, и в картишки не прочь… А жена, конечно, лахудра и ведьма, пилит, деньги, мол, давай…, и детей куча, и все бандиты, из участка не вылезают… Никто никого не знает! Тоже мне — проблема!
На протяжении этой речи Проводник наливается кровью, пытается что-то сказать, прервать, но не может. И только когда Писатель умолкает, он, наконец, выдавливает из себя:
— С-сам ты… Да как ты про меня можешь? Что ты про меня можешь знать? Писателишка ты задрипанный, шкура продажная… Тебе стены в сортирах расписывать, дармоед… А дочь у меня — ты знаешь? Что она калека от рождения — это ты знаешь? Я по Зоне ходил, а она за это расплачивается! Ребенок, а ее дразнят, потому что она слепая и на костылях ходит! Все, что из Зоны приносил, на докторов ухлопал, а они уже и не обещают ничего. Тоже профессора. Вроде вас!.. Э, что с тобой разговаривать, с заразой!
Он резко поднимается и скрывается за холмом.
— Зря вы так, — говорит Профессор.
— Что — зря? Ну что — зря? Врет же он все. Только что придумал. Я же его насквозь вижу!
— Нет-нет. Я ведь его давно знаю. Биография у него страшненькая. Сталкером стал еще мальчишкой, в тюрьме сидел несколько раз, калечился, и дочка у него на самом деле мутант, «жертва Зоны», как пишут в газетах. Он несколько лет назад работал у меня в институте лаборантом, так что я…
— Все равно врет. Не в дочке дело. Насчет дочки ему сейчас в первый раз в жизни в голову пришло. А просто люмпен не любит, когда его называют люмпеном. Он нуждается в высоком штиле, ему благородство чувств подавай… Граф, швырнув перчатку, гордо удалился. А домой он вернется с мешком денег, вот увидите…
— Чувствуется рука мастера. Ладно, не в этом дело.
Пауза. Затем Профессор ухмыляется:
— С добычей вернулся — счастье. Живой вернулся — удача. Патрульная пуля — везенье. А все остальное — судьба.
— Что это за унылая мудрость?
— Местный фольклор. Вы все время забываете, что мы находимся в Зоне. В Зоне нельзя делать резких движений и допускать резких высказываний.
— Виноват. Только не люблю я, когда вокруг простых вещей разводят философические сопли.
— А что вы вообще любите?
— Раньше писать любил, а теперь ничего не люблю. И никого.
— Вам никогда не приходило в голову, что будет, когда в это самое место, куда мы идем, поверят все? Когда они все сюда кинутся, тысячами, сотнями тысяч? — вдруг спрашивает Профессор.
— И сейчас многие верят, да как добраться?
— Доберутся дружок, доберутся. Один из тысячи, а доберется. Добрался ведь Дикобраз… А Дикобраз еще не самый плохой человек. Бывают люди и пострашнее. Золото им не нужно, и семейных дел у них никаких нет. Они будут мир исправлять, голубчик! Весь мир переделывать по своей воле, все эти несостоявшиеся императоры всея Земли, великие инквизиторы, фюреры всех мастей, благодетели и благоносцы… Думали вы об этом?
— Откровенно говоря, нет, — отвечает Писатель.
— А вы подумайте. Что касается меня, то я склонен верить в страшные сказки. В добрые — нет, а в страшные — да…
Писатель, кривя рот, пристально разглядывает Профессора.
— Ничегошеньки вы все-таки в людях не понимаете, — говорит он наконец. — Опять философические сопли. Разумеется, он, может быть, и придет туда весь мир переделывать, но ведь на самом-то деле на мир ему наплевать, а нужны ему бабы, водка нужна, денег побольше… Ведь у них же воображения ни черта нет, Профессор! Ну, в крайнем случае пожелает он от всего сердца, чтобы его начальника автомобилем переехало… Поймите вы, откуда все эти фюреры берутся? Либо его бабы не любят, либо критики не ценят, либо изо рта у него воняет невозможно… Вы, Профессор, сами в этом убедитесь, когда до места доберетесь… Я ведь вас тоже насквозь вижу. У вас же на лице написано, что вы-то как раз и замыслили какое-то чудовищное благодеяние всему человечеству. Другой бы на моем месте испугался. А я — видите? — спокоен!
— За меня вы спокойны, — говорит Профессор. — Оно и видно. Всех под свою мерку меряете. Политик, социолог из вас, знаете ли… За меня вы спокойны. А за себя?
— За себя? Ну, мои дела никого не касаются. Мне на весь ваш мир наплевать. Меня во всем вашем мире интересует только один человек — вот этот… — Писатель тычет себя в грудь пальцем. — Стоит чего-нибудь этот человек или нет? Зря он до сих пор небо коптит или все-таки слепил свой золотой кирпичик…
— Послушайте, — говорит Профессор. — Не надо себя обманывать. То вы говорите, что идете туда за вдохновением, то за красотой, то за покоем…
— А вот когда я узнаю, что я такое, тогда мне будет и покой, и вдохновение, и красота…
— А если вы узнаете, что вы — дерьмо? Если узнаете, что не только своего кирпичика не слепили, но и чужой сожрали? Хорошенький покой!
— А вот это, дорогой Эйнштейн, уже не ваше дело. Занимайтесь, пожалуйста, своим человечеством, только минус я.
— Да-да, это понятно. Меня ведь беспокоит вот что. Мне кажется, что на самом деле вам просто хочется, чтобы все от вас отстали и по возможности — навсегда.
— Золотые слова!
— Но раз все — значит, и я, — говорит Профессор — Поэтому я и прошу вас: подумайте все-таки, зачем вы идете Хорошенько подумайте! Ведь существуют миллиарды людей, которые совершен» но не виноваты в том, что вы — дерьмо.
Возвращается Проводник.
— Хватит валяться, — говорит он — Пошли…
Они бредут по проселочной дороге, покрытой тончайшей пылью. При каждом шаге пыль взлетает и некоторое время висит в неподвижном воздухе Вдоль дороги тянутся ветхие телеграфные столбы. Очень жарко, впереди над дорогой дрожит горячее марево