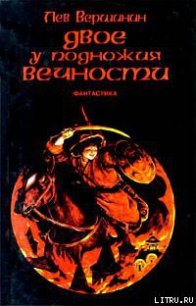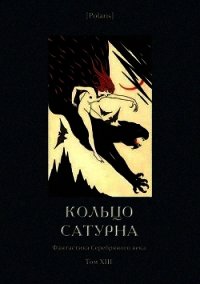Выдумки чистой воды (Сборник фантастики, т. 1) - Вершинин Лев Рэмович (книги онлайн полностью бесплатно TXT) 📗
Виталий Забирко (Донецк)
ПОБЕГ
В последнее время Кирилл стал плохо спать. Вечером, когда их всех привозили из Головомойки, когда голова раскалывалась, разламывалась, разваливалась от сверлящей мозг боли, он, с трудом, пересиливая тошноту, выхлебывал свой бачок устричноподобной склизлой похлебки, шатаясь от усталости, выстаивал вечернюю поверку, затем добирался до барака, валился на свое место и мгновенно засыпал. Но уже под утро, еще затемно, собственно, еще ночью, он просыпался и до самого подъема неподвижно, без сна, лежа на поросших грубой древо-шерстью нарах, мечтая о куреве. Он перебирал в уме все марки сигарет, которые ему доводилось курить: от легких болгарских, ароматизированных и витаминизированных, с традиционным фильтром, до контрабандных турецких с голубым табаком, с кашлем затягивался деревенским самосадом-горлодером и даже опускался в самую глубь воспоминаний, в детство, когда они вдвоем с дружком Вихулой забирались в дальние уголки виноградников и тайком от всех, а главным образом прячась от сторожа деда Хрона, курили крупно протертые сухие виноградные листья. Сейчас бы он курил любые — дубовые, кленовые, любой лиственный эрзац, но здесь, в лагере, не росло ничего, кроме деревьев-бараков, а о листьях редкого местного лесочка, начинавшегося сразу же за усатой оградой, можно было только мечтать.
Он перевернулся на другой бок — раздразнил себя, даже засосало под ложечкой, — и, уставившись в сереющую предрассветную мглу, постарался не думать, забыть, выбросить из головы все о сигаретах, папиросах, сигарах, трубках, мундштуках, самокрутках, листовом и нарезном табаке, заядлых и посредственных курильщиках… вплоть до последней затяжки, последнего глотка крепкого, сизого табачного дыма. Энтони никогда не курил, в его время еще не курили — он здесь давно, девять лет, «старичок», старожил местный, можно сказать, обычно в лагере больше семи лет никто не протягивает; Нанон забыла, что такое курить… и Портиш тоже, а Михась, как сам говорил, так вообще не брал в рот этой отравы, и Лара не пробовала… Ну а пины, так те совсем не знают, что это такое, тоже не пробовали, не нюхали табаку… Да и откуда им знать, что это такое?! Да и сам ты, Кирилл, давно перегорел, перетерпел, забыл о нем и вдруг — на тебе! — вспомнил, всплыло в памяти, засосало, разбередило душу… Он застонал и судорожно вцепился в деревянную шерсть нар. Боже, не думать, только не думать, выдавить из себя, пересилить!.. Клещами впивается и сосет, сосет, накатывается тошным клубком темноты, началом сумасшествия, «пляской святого Витта»… Когда всех в очередной раз привезут из Головомойки и все вылезут из драйгера как люди, как пины, живые, пусть шатаясь от ноющей пустоты в голове, с прочищенными, опустошенными мозгами, ты, лично ты — Кирилл Надев! — с выпученными, налитыми кровью глазами грянешься с борта на твердый, серый, со скрипящей, как тальк, пылью плац и начнешь по нему кататься, судорожно извиваясь, завязываясь в узлы, и выть, выть по-звериному сквозь бешеную пену, хлопьями летящую изо рта… А все будут молча стоять вокруг тебя неподвижным скорбным кругом: худые, изможденные, с потухшими пустыми глазами — небритые серые мужчины, ссохшиеся корявые женщины и пучеглазые пины. И никто не поможет тебе, не схватит, не скрутит, не надает пощечин — очнись! — потому что это бесполезно, ни к чему, уже пробовали… А затем подоспеет смерж, эта падаль, этот слизняк, полупрозрачная манная каша, разгонит всех и направит на тебя леденящее душу жерло василиска. И только тогда ты наконец замрешь, успокоишься — навсегда! — закостенеешь скрюченной статуей, монументом боли — вечным проклятием смержам, лагерю, Головомойке…
Сигнал подъема сорвал его с нар, швырнул на пол, еще дурного, всего в холодном поту, и, болью взрываясь в голове, погнал на плац. С верхнего яруса нар, постанывая и всхлипывая, сыпались пины, с нижнего, крича от боли и отчаянно кляня все на свете, вскакивали люди, и все вместе бурлящей толпой выносились из барака.
Уже рассвело. Рыжий холодный туман, ночью окутывавший лагерь, последней дымкой уползал сквозь усатую ограду в лес. Деревья-бараки, выращенные правильными рядами на территории лагеря, резко очерчивались мокрыми и черными от росы боками.
Все выстраивались в две шеренги — люди, пины, лицом друг к другу, согласно номерам: четный — пин, нечетный — человек. Стояли молча, зябко ежась, переминаясь с ноги на ногу. Большинство тоскливо смотрело, как последние клочки тумана беспрепятственно просачиваются сквозь ограду.
Поверка началась с восемнадцатого, углового барака. Учетчик-смерж неторопливо полз между шеренгами, часто останавливался, дрожа мутным белесым холодцом, и снова катился дальше. Он распустил восемнадцатый барак, семнадцатый, шестнадцатый зачем-то оставил стоять, пятнадцатый тоже отпустил и, наконец, подобрался к четырнадцатому, крайнему на этой линии.
«Слякоть ты вонючая, — кипятился Кирилл. — Ползешь, выбираешь, оцениваешь… А мы стой и не шевелись, вытянись в струнку и молчи, как в рот воды… Жди, пока ты сосчитаешь и соизволишь распустить всех, а то еще и оставишь стоять, как шестнадцатый барак».
Смерж медленно продефилировал вдоль строя, подкатил к Портишу и остановился. Портиш вытянулся как новобранец, затаил дыхание — ну, чего встал, чего тебе от меня надо? — а смерж тихонько подрагивал под прозрачной оболочкой варилась манная каша, набухала и, наконец, лопнула воздушным пузырем. Портиш судорожно вздохнул, из глаз покатились слезы. Он еще сильнее вытянулся и застыл. Смерж удовлетворенно заурчал, будто пустым желудком, и покатился дальше. По шеренге распространилась слезоточивая вонь.
«Ах ты дрянь! Клозет, сортир ходячий! — сцепил зубы Кирилл. — Ничего, придет время, мы с тобой за все, за все посчитаемся! Дай только случай!»
Смерж дополз до конца строя и остановился. Затем собрался в шар. По его поверхности кольцами заструились радужные бензиновые разводы. Строй пошатнулся, словно от удара взрывной волны, кое-кто застонал. В головы ударила тупая ноющая боль, и тотчас по лагерю далеким эхом прокатился низкий, без всяких интонаций, Голос:
— Четырнадцатый барак. Тридцать седьмого нет. Где? Где?
В строю зашевелились, приглушенно заговорили.
Тридцать седьмой… Нечет, нечетный. Человек. Кого нет? Кого? Лариша… Кого? Лариша нет! Куда его черти унесли? Стоять теперь часа три, как шестнадцатому, еще и жрать не дадут… Голову откручу, сволочи!
Голос назвал наобум несколько нечетных номеров, и они бросились искать. Собственно, все было ясно. Искать Лариша было бесполезно. Его не было. Его просто уже не могло быть. Никто еще не выдерживал зова утренней поверки. По крайней мере, из живых.
Болван, молодой, зелень буйная, тоже мне, нашел выход. Всего полгода в лагере, а уже умнее всех — вот, мол, я какой, не вы все, не вам всем чета, не хлюпик какой-нибудь… Вы тут как хотите, сгнивайте заживо, сушите себе мозги в Головомойке, хлебайте грибную склизлую бурду, вытягивайтесь строем перед смержами, пусть они высасывают ваш разум, ваши мысли… А я не могу так. Не хочу. Не желаю! Я… пошел. И бац себя самодельной бритвой по венам. Или по горлу. Или как-нибудь еще… Только ты болван, поросль зеленая, не уйдешь ты так ни от кого, никто так еще не уходил, ни один. А пробовали… Но пока в тебе еще что-то есть, пока еще хоть что-то можно высосать из твоей головы, пока ты способен еще читать и думать и не осталась от тебя только пустая безмозглая шелуха, не отпустят тебя смержи просто так, за здорово живешь, ни в какую не отпустят, восстановят как миленького, как новенького, будто только мать родила, без царапинки, без заусеницы, свеженького как огурчик… И запрут в Головомойку суток на двое для профилактики. И выйдешь ты оттуда как шелковый, тише воды, ниже травы, высосанный, высмоктанный, уже не человек, а ошметья человеческие. Полуидиот. Как Копье, как Васин. И уже не захочешь себе резать ни вены, ни горло…