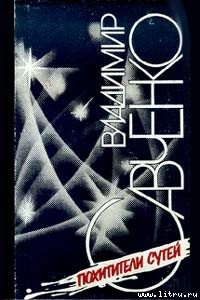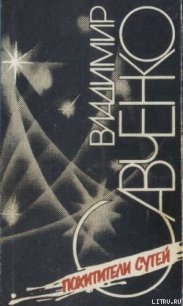Должность во Вселенной - Савченко Владимир Иванович (первая книга TXT) 📗
— Дальше?…
Что могло быть дальше? Корнев перегнулся, сгреб женщину в объятия, перетащил к себе; с удовольствием почувствовал, что свитер и джинсы не обманывали — тело действительно было упругое, теплое.
— Александр Иванович, вы что?! — Люся ошеломленно уперлась в его грудь ладонями. — Я вовсе не это имела в виду!..
— А я это. — Он запустил правую руку под свитер, лево притянул к себе Люсины плечи, искал губами ее губы — и нашел. Потом поднял и понес ее в угол кабины, где лежал застеленный матрас; пол слегка покачивался под ногами.
Людмила Сергеевна вела себя достойно — сопротивлялась, отнимала руки. Но поскольку, кроме их двоих, теперь здесь присутствовал и некто третий по имени Взаимное Влечение, то получилось так, что ее суматошные отталкивания помогли Корневу быстрее и легче освободить ее от одежды, чем если бы она не противилась. Так бывает.
В черноте ядра тем временем голубовато накалился новый Вселенский Шторм. Персептрон-автомат прицельно и не спеша повел кабину вверх, выбрал среди множества новых вихриков-Галактик одну, приблизился к ней — и она развернулась в обильное звездами небо.
…И под этим небом, под согласованно мерцающими, переливающимися звездами Меняющейся Вселенной послышалось то, что бесчисленное число раз слышали обычные звезды, луна, облака, кусты, деревья, берега рек, луга и поляны, слышали на всех языках человечьих, птичьих и звериных:
— Ну, Люся… ну, Люсь!..
— Ох, ну не нннадо… не надо, Александр Иваныч миленький, Саша, Сашенька! О… аххх!..
Не было более главного инженера и главкибернетика, отмелись вместе с одеждами имена и различия. Осталось главное: Мужчина и Женщина, Он и Она — что было, есть и да пребудет во веки веков. И было хорошо весьма.
Во втором заходе Люся научилась (Саша научил) нежно оплетать ногами его мускулистые ноги.
Автомат между тем начал поиск планеты, целевая модель которой осталась в его памяти: приближал звезду, она увеличивалась до диска, в кабине ночь сменялась минутным днем. Звезда уплывала в сторону — опять сумерки, ночь — возникала над куполом планета и светила, как ущербная луна. Но мир сей не подходил под заданный образец, автомат браковал его, а затем, просмотрев и показав всю звездную систему, устремлял кабину к иной… Они, отдыхая, лежали, смотрели: Люсина голова на плече Александра Ивановича.
— Нет, это не то! — Она поднялась, подошла к пульту, нажала несколько клавишей. Звездное небо сгустилось в Галактику — теперь весь косо накренившийся вихрь из миллиардов сверкающих точек помещался над куполом. Свет его — слабее дневного, но ярче лунного — волшебно лился на нагое стройное тело Люси.
Корнев глядел, любовался: нет, эта женщина не с Земли сюда поднялась — опустилась из Меняющейся Вселенной. Сгустилась из света звезд.
Она вернулась, легла к нему. Он склонился над ней:
— Ты чудесная женщина, Люсь. Девушка со звезды. И как мы подходим друг к другу!
…они все не могли насытиться. Чем-то их простое и радостное занятие, действие ради чувствования, было родственно делающемуся в MB. Корнев это ощущал спиной. И шорох их движений, звуки поцелуев, негромкие стоны Люси как-то очень естественно сплетались с ниспадающим на них из динамиков многоголосым ритмичным шумом вселенских процессов, временами переходящим в симфонические аккорды, — как первичное с первичным.
«Действие ради чувствования… — думал затем Александр Иванович, лежа на спине и глядя на Галактику, которая все набирала накал и блеск выразительности, сворачивалась в ярчайший эллиптический диск. — А что, если и там все так? Ведь невозможно оспорить, что этот мир — живой, что жизнь-активность лежит в начале всех причин. Но раз так, то чувство существует в природе наравне с действием, это две стороны чего-то изначального. И мир, сам себя делая, выпячиваясь из небытия, сам себя и чувствует — с непредставимой силой воспринимает всю полноту бытия, созидания и разрушения, разделения и смещения… Поэтому и получается в нем такая выразительность: пустота — и огненные точки звезд. Сама материя-действие необъективна, поэтому каждое образование в ней стремится к долгому устойчивому бытию, к действию-существованию ради чувства своей жизни. Своей! Свет звезд — это и радость их, тысячеградусный накал ядерной страсти. И планеты они рождают-выделяют из себя в счастье и муке. И космический холод суть ужас, и вспышки сверхновых, происходят в экстазе самоотдачи… Но если эти чувства соразмерны объемам, массам, давлениям, скоростям и температурам, всем происходящим в звездах и Галактиках процессам, какова же их мощь, глубина самопоглощения, масштабы, сила?! И что против них наше комариное чувствованьице — хоть плотью своей, хоть посредством приборов? Что есть наши попытки выдавать самих себя за единственных чувствующих и познающих объективный мир существ?
Но если так… как же мы заблудились!»
Мысль была страшная. Она осела на другие трудные мысли, которые последнее время все больше одолевали Корнева, мешали работать и жить. Он вдруг почувствовал себя маленьким, слабым, напуганным — ребенком. И, как ребенок, приник лицом к груди Люси.
Та почувствовала перемену, погладила, спросила тревожно:
— Что, Александр Иванович?
— Ох, Люсь, знаешь… я вроде перестаю понимать все. И если бы только я!.. Мы стремимся сюда, исследуем… Ну, ученье — свет, знание, стало быть, тоже. А если не свет — огонь? И мы бабочки, летящие на него?… Ведь дело не в том, что почти никто не знает, куда мчит Земля и Солнце, а — никому дела нет до этого. И мне еще недавно не было дела…
Он говорил не столько ей — себе. Люся не все и поняла из его бормотанья, но — обняла, гладила, целовала:
— Ну, Саша… вы просто устали. Нельзя так влезать в дела — всеми печенками. Нужно уметь отвлечься. А то ведь даже о том, что он мужчина, забыл, бедненький, пока я не напомнила. Мой славный, хороший мужчина!..
И голос у Людмилы Сергеевны был не такой, как обычно, — резкий, с командными интонациями, а тонкий и немного детский от нежности. Она очень любила сейчас и хотела, чтобы ему — прежде всего ему, Сашеньке, — было хорошо и покойно.
И он снова воспрял, и утвердил себя, и почувствовал покой и уверенность.
А Галактика над куполом плыла во тьме, упруго подрагивая краями. Колебания яркости цвета звезд распространялись по ней от ядра согласованными переливами. Она снова раскручивалась из эллипса в вихрь — только звездные рукава теперь простирались в другую сторону. И кто знает, шло ли это от несущего ее потока материи-действия, или образ сам выбирал свою форму и изменения, чтобы наилучше выразить себя и насладиться бытием; наверное, не без того и не без другого.
И по краям Галактики, в рукавах, все чаще вспыхивали и растекались светящимся туманом сверхновые.
— Послушай, я кое-что понял, — Александр Иванович лежал, закинув руки за голову. — Четвертая координата не время, а ускорение времени. И необъективность нашего взгляда на мир начинается с того, что мы видим все в своем темпе изменений… а что он для вселенских событий! Понимаешь, если так видеть в пространстве, то нам были бы доступны только предметы наших размеров. По вертикали этаж, а не все здание, по горизонтали опять-таки один балкон. Или окно. Не лес и не деревья в нем, а ствол одного дерева. Или ветка. А на далеких дистанциях и вовсе ничего: камень неразличим, гора необозрима… Во времени мы слепее кротов, понимаешь?
— Понимаю… — Люся приподнялась на локте, посмотрела на Корнева, вздохнула. — Я так понимаю, что нам пора вставать. Петушок пропел давно… — Она вдруг приникла к нему, обвила теплыми руками, целовала грудь, шею, лицо, глаза. — Послушай, почему мне так жаль тебя? Вот ты сильный, умный, а жалко до слез!
И верно, в голосе ее чувствовались слезы.
— Баба, вот и жалко, — отстранился Александр Иванович. — Так вы, женщины, устроены: чтоб вы жалели и чтоб вас тоже. Подъем!