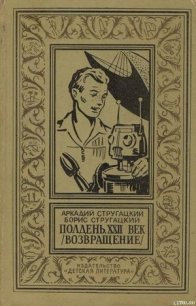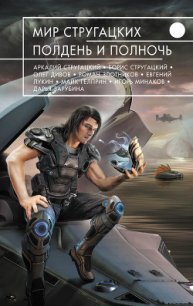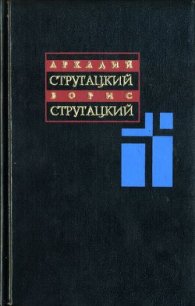Полдень, XXII век. Малыш - Стругацкие Аркадий и Борис (читать бесплатно полные книги .TXT) 📗
Могу только сказать: лицо его ожило, и не просто ожило — оно взорвалось движениями. Не знаю, сколько там на лице у человека мускулов, но у него они все разом пришли в движение, и каждый самостоятельно, и каждый беспрестанно, и каждый необычайно сложно. Я не знаю, с чем это сравнить. Может быть, с бегом ряби на воде в солнечном свете, только рябь однообразна и хаотична, однообразна в своей хаотичности, а здесь сквозь фейерверк крошечных движений проглядывал какой-то определенный ритм, какой-то осмысленный порядок, это не была болезненная конвульсивная дрожь, агония, паника. Это был танец мускулов, если можно так выразиться. И начался этот танец с лица, а затем заплясали плечи, грудь, запели руки, и сухие прутья затрепетали в сжатых кулаках, принялись скрещиваться, сплетаться, бороться — с шорохом, с барабанной дробью, со стрекотом, словно целое поле кузнечиков развернулось под кораблем. Это длилось не больше минуты, но у меня зарябило в глазах и заложило уши. А затем все пошло на убыль. Пляска и пение ушли из палочек в руки, из рук в плечи, затем в лицо, и все кончилось. На нас снова глядела неподвижная маска. Мальчик легко поднялся, шагнул через кучку прутьев и вдруг ушел в мертвое пространство.
— Почему вы молчите? — надрывался Комов. — Яков! Яков! Вы слышите меня? Почему молчите?
Я очнулся и поискал глазами Комова. Ксенопсихолог стоял в напряженной позе, лицом к кораблю, длинная тень тянулась по песку от его ног. Вандерхузе откашлялся и проговорил:
— Слышу.
— Что произошло?
Вандерхузе помедлил.
— Не берусь рассказать, — сказал он. — Может быть, вы, ребята?
— Он разговаривал! — произнесла Майка сдавленным голосом. — Это он разговаривал!…
— Слушайте, — сказал я. — А он не к люку пошел?
— Возможно, — сказал Вандерхузе. — Геннадий, он ушел в мертвое пространство. Возможно, он пошел к люку…
— Следите за люком, — быстро скомандовал Комов. — Если он войдет, сейчас же сообщите мне, а сами запритесь в рубке… — Он помолчал. — Жду вас через час, — проговорил он с какой-то новой интонацией, обычным спокойно-деловым тоном и словно бы отвернувшись от микрофона. — За час вы управитесь?
— Не понял, — сказал Вандерхузе.
— Запритесь! — раздраженно закричал Комов прямо в микрофон. — Понимаете? Запритесь, если он войдет в корабль!
— Это я понял, — сказал Вандерхузе. — Где вы нас ждете через час?
Наступило молчание.
— Жду вас через час, — снова отвернувшись от микрофона, деловито повторил Комов. — За час вы управитесь?
— Где? — сказал Вандерхузе. — Где ждете?
— Яков, вы меня слышите? — громко спросил Комов с беспокойством.
— Слышу вас отлично, — произнес Вандерхузе и растерянно оглянулся на нас. — Вы сказали, что ждете нас через час. Где?
— Я не говорил… — начал Комов, но тут его прервал голос Вандерхузе, такой же глуховатый, словно в отдалении от микрофона:
— А не пора ли нам обедать? Стась там, наверное, соскучился, как ты полагаешь, Майка?
Майка нервно захихикала.
— Это же он… — проговорила она, тыча пальцем в экран. — Это же он… там…
— Что происходит, Яков? — гаркнул Комов.
Странный голос — я даже не сразу понял чей — произнес:
— Я тебя, старикашечку моего, вылечу, на ноги поставлю, в люди выведу…
Майка, уткнувшись лицом в ладони, икала от нервного хохота, поджимая колени к подбородку.
— Ничего особенного, Геннадий, — произнес Вандерхузе, вытирая платком вспотевший лоб. — Недоразумение. Клиент разговаривает нашими голосами. Мы его слышим через внешнюю акустику. Маленькое недоразумение, Геннадий.
— Вы его видите?
— Нет… Впрочем, вот он появился.
Мальчик снова стоял возле своих прутьев, уже в другой, но такой же неудобной позе. Он опять глядел нам прямо в глаза. Потом рот его приоткрылся, губы странно искривились, обнажив десны и зубы в левом углу рта, и мы услышали голос Майки:
— В конце концов, если бы у меня были ваши бакенбарды, я бы, может быть, относилась к жизни совсем по-другому…
— Сейчас он говорит голосом Майки, — невозмутимо сообщил Вандерхузе. — А сейчас посмотрел в вашу сторону. Вы его все еще не видите?
Комов молчал. Мальчик все стоял, повернув голову в его сторону, совершенно неподвижный, словно окаменелый, — странная фигура в сгущающихся сумерках. И вдруг я понял, что это не он. Фигура расплывалась. Сквозь нее проступила темная кромка воды.
— Ага, вижу! — с удовлетворением сказал Комов. — Он стоит шагах в двадцати от корабля, так?
— Так, — сказал Вандерхузе.
— Не так, — сказал я.
Вандерхузе присмотрелся.
— Д-да, пожалуй, не так, — согласился он. — Это, пожалуй… Как вы это называете, Геннадий? Фантом?
— Стойте, — сказал Комов. — Вот теперь я его вижу по-настоящему. Он идет ко мне.
— Ты видишь его? — спросила меня Майка.
— Нет, — ответил я. — Темно уже.
— Не в темноте дело, — возразила Майка.
Наверное, она была права. Солнце, правда, зашло, и сумерки сгустились, но Комова я на экране различал и видел тающий фантом, и взлетную полосу, и айсберг вдали, а вот мальчика я больше не видел.
Потом я увидел, что Комов сел.
— Подходит, — проговорил он вполголоса. — Сейчас я буду занят. Не отвлекайте меня. Продолжайте внимательно следить за окрестностями, но никаких локаторов, никаких активных средств вообще. Попробуйте обойтись инфраоптикой. Все.
— Доброй охоты, — сказал Вандерхузе в микрофон и поднялся. Вид у него был торжественный. Он строго посмотрел на нас поверх носа, привычным плавным движением взбил бакенбарды и произнес: — Стада в хлевах, свободны мы до утренней зари.
Майка судорожно зевнула и проговорила:
— Спать мне хочется, что ли? Или это от нервов?
— Между прочим, спать нам теперь придется мало, — заявил Вандерхузе. — Давайте сделаем так. Пусть Майка идет отдыхать. Я останусь у экрана, а Стась пусть спит у рации. Через четыре часа я его разбужу, как ты полагаешь, Стась?
Я не возражал, хотя и сомневался, что Комов столько высидит на морозе. Майка, продолжая зевать, не возражала тоже. Когда она ушла, я предложил Вандерхузе сварить кофе, но он отказался под каким-то смехотворным предлогом — наверное, он хотел, чтобы я поспал. Тогда я устроился возле рации, просмотрел новые радиограммы, не обнаружил ничего срочного и передал их Вандерхузе.
Некоторое время мы молчали. Спать совсем не хотелось. Я так и этак прикидывал, какими же должны быть воспитатели Пьера Семенова. Человеческий детеныш, воспитанный волком, бегает на четвереньках и рычит. Медвежий человек — тоже. Вообще воспитание полностью определяет модус вивенди любого существа. То есть не то чтобы полностью, но заметно определяет. Почему, собственно, наш маугли остался человеком прямостоящим? Это наводит на определенные размышления. Он ходит на ногах, он активно пользуется руками, это само по себе не есть что-то врожденное, это воспитывается. Он может говорить. Конечно, он не понимает, что он говорит, но видно, что та часть мозга, которая ведает речью, задействована у него великолепно… И ведь он запоминает все с одного раза! Странно, очень странно. Негуманоиды, о которых я знаю, были бы совершенно неспособны так воспитать человеческого детеныша. Прокормить его, приручить — могли бы. Исследовать в своих странных лабораториях, похожих на гигантскую действующую модель кишечника, — тоже могли бы. Но увидеть в нем человека, идентифицировать в нем человека, сохранить в нем человека — вряд ли. Неужели это все-таки гуманоиды? Ничего не понимаю.
— Во всяком случае, — сказал вдруг Вандерхузе, — они гуманны в самом широком смысле слова, какой только можно придумать, раз они спасли жизнь нашему младенцу, и они гениальны, ибо сумели воспитать его похожим на человека, ничего, может быть, не зная о руках и ногах. Как ты полагаешь, Стась?
Я неопределенно хмыкнул, и он замолчал.
В рубке было тихо. База нас не беспокоила, Комов тоже на связь не выходил; на темном экране вспыхивали, переливаясь, радужные полотнища сполохов, и в их призрачном свете был едва виден Комов, сидевший совершенно неподвижно, а мальчика я так и не сумел разглядеть ни разу. Но дело у них явно шло на лад, потому что большой бортовой вычислитель время от времени принимался тихонько чавкать и урчать, переваривая и организуя информацию, получаемую с транслятора. Потом я задремал, и приснились мне, помнится, какие-то хмурые небритые осьминоги в синих спортивных костюмах и с зонтиками, они учили меня ходить, а мне было так смешно, что я все время падал, вызывая их крайнее неудовольствие. Проснулся я от мягкого и неприятного толчка в сердце. Что-то произошло. Что-то тревожное.