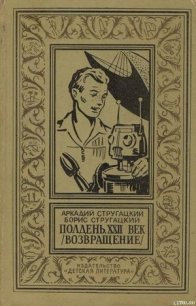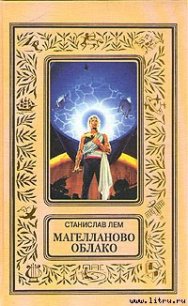Возвращение(Полдень. 22-й век). Изд.1962г. - Стругацкие Аркадий и Борис (лучшие книги читать онлайн txt) 📗
— Я опять забыл, Евгений, какой нынче год? — сказал Кондратьев.
— Две тысячи сто девятнадцатый, — ответил Женя торжественно. — Все называют его просто сто девятнадцатым.
— Ну и как, Евгений, — сказал Кондратьев очень серьезно, — рыжие — они как — сохранились в двадцать втором веке или совершенно вымерли?
Женя все так же торжественно ответил:
— Вчера я имел честь беседовать с секретарем Экономического Совета северо-западной Азии. Умнейший человек и совершенно инфракрасный.
Они засмеялись, рассматривая друг друга. Потом Кондратьев спросил:
— Слушай, Женя, откуда у тебя эта трасса через физиономию?
— Эта? — Женя ощупал пальцами шрам. — Неужели еще видно? — огорчился он.
— Еще как! — сказал Кондратьев. — Красным по белому.
— Это меня тогда же, когда и тебя. Но мне обещали, что это скоро пройдет. Исчезнет без следа. И я верю, потому что они все могут.
— Кто это — они? — тяжело спросил Кондратьев.
— Как — кто? Люди… Земляне.
— То есть — мы?
Женя заморгал.
— Конечно, — сказал он неуверенно. — В некотором смысле… мы. — Он перестал улыбаться и внимательно поглядел на Кондратьева. — Сережа, — сказал он тихо. — Тебе очень больно, Сережа?
Кондратьев слабо усмехнулся и показал глазами: нет, не очень. Но скоро будет очень, подумал он. Все равно, Женя хорошо сказал. «Сережа. Тебе очень больно, Сережа?» Хорошие слова, и он хорошо их сказал. Он сказал их совершенно так же, как в тот несчастный день, когда «Таймыр» зарылся в зыбкую пыль безымянной планеты и Кондратьев глупо, никчемно рискнул во время вылазки и повредил ногу. Было очень больно, хотя, конечно, не так, как сейчас. Женя, бросив кинокамеры, полз по осыпающемуся склону бархана, волоча за собой Кондратьева, и неистово ругался, а потом, когда им удалось наконец выкарабкаться на гребень, он ощупал ногу Кондратьева сквозь ткань скафандра и вдруг тихонько спросил: «Сережа. Тебе очень больно, Сережа?» Над голубой пустыней выползал в сиреневое небо жаркий белый диск, раздражающе тарахтели помехи в наушниках, и они долго сидели, дожидаясь возвращения робота-разведчика. Робот-разведчик так и не вернулся; должно быть, затонул в пыли. И тогда они поползли обратно к «Таймыру»…
— О чем ты будешь писать? — спросил Кондратьев. — О нашем рейсе?
Женя с увлечением принялся говорить о частях и главах, но Кондратьев уже не слышал его. Он смотрел в потолок и думал: больно, больно, больно… И, как всегда, когда боль стала невыносимой, в потолке раскрылся овальный люк, бесшумно выдвинулась серая шершавая труба с зелеными мигающими окошечками. Труба плавно опустилась, почти касаясь груди Кондратьева, и замерла. Затем раздался тихий вибрирующий гул.
— Эт-то что? — осведомился Женя и встал. Кондратьев молчал, закрыв глаза, с наслаждением ощущая, как отступает, затихает, исчезает сумасшедшая боль.
— Может быть, мне лучше уйти? — сказал Женя, озираясь.
Боль исчезла. Труба бесшумно ушла наверх, люк в потолке закрылся.
— Нет-нет, — сказал Кондратьев. — Это просто процедура. Сядь, Женя.
Он пытался вспомнить, о чем говорил Женя. Да. Повесть-очерк «За световым барьером». О рейсе «Таймыра». О попытке проскочить световой барьер. О катастрофе, которая перенесла «Таймыр» через столетие…
— Слушай, Евгений, — сказал Кондратьев, — они понимают, что случилось с нами?
— Да, конечно, — сказал Женя.
— Ну?
— Гм! — сказал Женя. — Они это, конечно, понимают. Но нам от этого не легче. Я, например, не могу понять, что они понимают.
— А все-таки?
— Я рассказал им все. Когда я дошел до этих ужасных эфирных мостов, они заявили: «Все понятно. Это была сигма-деритринитация».
— Как? — сказал Кондратьев.
— Де-ри-три-ни-та-ци-я. Сигма притом.
— Любопытно, — пробормотал Кондратьев. — Может быть, они еще что-нибудь заявили?
— Они мне прямо сказали: «Ваш „Таймыр“ подошел вплотную к световому барьеру с легенным ускорением и сигма-деритринитировал пространственно-временной континуум». Они сказали, что нам не следовало прибегать к легенным ускорениям.
— Так, — сказал Кондратьев. — Не следовало, значит, прибегать к этим… как их… ускорениям: А мы, значит, прибегли. Дери… тери… Как это называется?
— Деритринитация. Я запомнил с третьего раза. Одним словом, насколько я понял, всякое тело у светового барьера при определенных условиях чрезвычайно сильно искажает форму мировых линий и как бы прокалывает риманово пространство. Ну… это приблизительно то, что предсказывал в наше время Быков-младший. («Ага», — сказал Кондратьев.) Это прокалывание они называют деритринитацией. У них все корабли дальнего действия работают на этом принципе. Д-космолеты. («Ага», — снова сказал Кондратьев.) При деритринитации особенно опасны эти самые легенные ускорения. Откуда они берутся и в чем их суть, я совершенно не понял. Какие-то локальные вибрационные поля, гиперпереходы плазмы и так далее. Факт тот, что при легенных помехах неизбежны чрезвычайно сильные искажения масштабов времени. Вот это и случилось с нашим «Таймыром».
— Деритринитация, — печально сказал Кондратьев и закрыл глаза.
Они помолчали. «Плохо дело, — подумал Кондратьев. — Д-космолеты. Деритринитация. Этого мне не одолеть. И сломанная спина».
Женя погладил его по щеке и сказал:
— Ничего, Сережа. Я думаю, со временем мы во всем разберемся. Конечно, ничего не поделаешь, придется очень много учиться…
— Переучиваться, — прошептал Кондратьев, не открывая глаз. — Не обольщайся, Женя. Переучиваться. Все с самого начала.
— Ну что ж, я не прочь, — сказал Женя бодро. — Главное — захотеть.
— Хотеть — значит мочь? — ядовито осведомился Кондратьев.
— Вот именно.
— Это присловье придумали люди, которые могли, даже когда не хотели. Железные люди.
— Ну-ну, — сказал Женя, — ты тоже не бумажный. Вот слушай. На прошлой декаде я познакомился с одной молодой женщиной…
— Понятно, — сказал Кондратьев.
Женя очень любил знакомиться с молодыми женщинами.
— Она языковед. Умница, чудесный, изумительный человек…
— Ну разумеется, — сказал Кондратьев.
— Дай мне сказать, Сережа. Я все понимаю. Ты боишься. Не надо бояться. Здесь нельзя быть одиноким. Мне тоже сначала было страшно. А потом мы познакомились, и… Словом, выходи из больницы, и тогда поговорим. Поправляйся скорее, штурман. Ты киснешь.
Кондратьев помолчал, затем попросил:
— Евгений, будь добр, подойди к окну.
Женя встал и, неслышно ступая, подошел к огромному — во всю стену — голубому окну. В окне штурман не видел ничего, кроме далекого, прозрачного неба. Ночью окно было похоже на темно-синюю пропасть, утыканную колючими звездочками, и раз или два штурман видел, как там загорается красноватое зарево — загорается и быстро гаснет.
— Подошел, — сказал Женя.
— Что там?
— Там балкон.
— А дальше?
— А под балконом площадь, — сказал Женя и оглянулся на Кондратьева.
Кондратьев насупился. Даже Женька Славин не понимает его. Одинок до предела. Совершенно один в огромном неизвестном мире. До сих пор он не знает ничего. Ничего. Он не знает даже, какой пол в его комнате, почему все ступают по этому полу совершенно бесшумно. Вчера вечером штурман попытался приподняться и осмотреть комнату и сразу свалился в обмороке. Больше он не делал попыток, потому что терпеть не мог быть без сознания.
— Вот это здание, в котором ты лежишь, — сказал Женя, — это санаторий для тяжелобольных. Здание шестнадцатиэтажное, и твоя комната…
— …палата, — проворчал Кондратьев.
— …и твоя комната находится на девятом этаже. Балкон. Кругом горы — Урал — и сосновый лес. Дальше там Свердловск. До него километров сто. Отсюда я вижу, во-первых, второй такой же санаторий. Во-вторых, вижу стартовую площадку для птерокаров. Ах, право, чудесные машины! Там их сейчас четыре… Так. Что еще? В-третьих, имеет место площадь-цветник с фонтаном. Возле фонтана стоит какой-то ребенок и, судя по всему, размышляет, как бы удрать в лес…