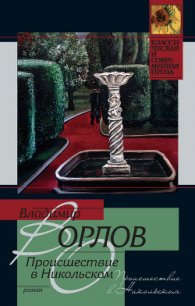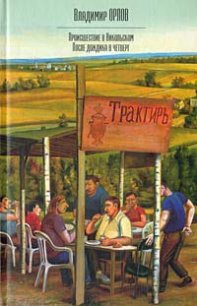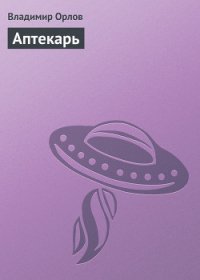Шеврикука, или Любовь к привидению - Орлов Владимир Викторович (читать лучшие читаемые книги TXT) 📗
Многое было на него возложено. Но не все открыто. Или, вернее, Шеврикука сам не пожелал все допустимое узнать. Разъяснив себе самому (и кому-то), что он готов лишь для начальных действенных знаний. В частности, не захотел носить в себе соображения о том, на чье имя ему, Шеврикуке, в случае его «безвозвратного исчезновения» или «воздушного убытия из Останкина», переписать или генерально передоверить «Возложение». Хотя бы потому, что, коли бы узнал, на кого следует переписать, тут же, по слабости и лености натуры, исхитрился бы, издурачился бы, даже и разыграл бы безрассудного, слюни пустил изо рта и в бубен стал бы стучать, как Колюня-Убогий, и свалил бы на «упомянутого» или «упомянутых» свои заботы. Но это было бы, как полагал теперь Шеврикука, дурно.
Терпи, не скули и неси свои тяготы.
Но вдруг Петр Арсеньевич был именно чесучовый мухомор, не выдержавший напряжений в плечах и спине, сам устроивший жильцам на Кондратюка газовый взрыв и пожар, а себе – воздушное убытие?
Нет, убеждал себя Шеврикука, его погубили. Меня же охотники пусть попробуют погубить. Петра Арсеньевича на скамейке Звездного бульвара он, помнится, вопрошал: не из старцев ли Петр Арсеньевич, тех самых, по простодушному преданию, «не скованных и не связанных», коим выпало бодрствовать и оберегать? «Вы ошибаетесь», – кротко ответил Петр Арсеньевич. Кротко отрекся от оберегателей. Слукавил? Или побоялся нарушить запрет разглашать? Его, Шеврикуку, «Возложение» в бодрствующие старцы не производило. И ладно. В разговоре том Петр Арсеньевич нечаянно выронил слова (а может – и не нечаянно) о своем дальнем знакомце, угодившем в секретные узники, тут же перепугался и обозвал свои слова оговоркой. А не случилось ли воздушное убытие из Останкина Петра Арсеньевича подконвойным полетом в секретные казематы? Не грозит ли и ему, Шеврикуке, примирившемуся с неизбежностью «Возложения», воздушное убытие, баланда и вериги секретного узника?
«А хоть бы и грозило? – бросал Шеврикука в отваге вызов опять же кому-то. – А там посмотрим!» Куражился, словно требуя, чтобы ему сейчас же подавали дыбы, цепи, плети, пыточные колеса, баланду и вериги! Похоже, состояние наследника Петра Арсеньевича ему начинало нравиться, будто бы он именно приобрел теперь новое значение в сословии, а «Возложением» – не отягощен, но удостоен или даже пожалован.
«Перестань! – охлаждал себя Шеврикука. – Нашел чему радоваться! Вспомни, кто ты есть истинный. Или кем должен быть».
Вспоминал. И вновь становился угрюмым.
Многое сходилось из того, чему не обязательно было сойтись. Скажем, находки Пэрста-Капсулы в марьинорощинском раскопе оказались нелишними. А посему можно было посчитать нерешительную просьбу Пэрста-Капсулы показать ему перечень предметов Петра Арсеньевича, предполагаемо заваленных временем и землей в 11-м проезде Марьиной Рощи, справедливой и следственно – оправданной. А перечня Шеврикука не обнаружил. Может быть, были у Петра Арсеньевича в доме на Кондратюка и еще тайники, но их опустошили до стараний Шеврикуки и Пэрста-Капсулы? В портфеле Петра Арсеньевича лежала лишь карточка с чертежом и словами: «Малина. 11 проезд Марьиной Рощи. Подпол. Четыре спуска». Недавние кладоискатели в темно-зеленых маскировочных халатах на месте порушенного дома Евдокии Игнатьевны Полтьевой, в просторечии именовавшегося Дуськиной малиной, вырыли яму. Добытчик и склонный к изыскательским экспедициям подселенец Пэрст-Капсула, исполняя поручение или прихоть Шеврикуки, после трудов кладоискателей и отряженных властями археологов инспектировал раскоп и доставил Шеврикуке несколько вещичек. Упоминал Пэрст-Капсула и о других своих открытиях и наблюдениях. Откопал он еще золотой червонец, бумажные деньги с ликами императрицы Екатерины, фарфорового бульдога, видимо копилку, под ушами бульдога что-то брякало. Червонец, деньги, копилку Пэрст-Капсула Шеврикуке не донес, не желая засорять деятельную личность хламом, а хранил приобретения в фанерной коробке. На всякий случай. Из наблюдений же Пэрста-Капсулы и из его логических сопоставлений следовало, что среди кладоискателей действовал домовой из Землескреба, стервец Продольный. Сгинул в ту ночь домовой Большеземов, он же Фартук, приятель Продольного, бросившийся к марьинорощинскому раскопу. Очень может быть – то, что потрошители искали, они и нашли. И Пэрстом-Капсулой, и в газетах упоминался громоздкий пивной котел, его трясли и колотили, вдруг что и вытрясли. А может, и не в пивном котле полеживали интересные Продольному, Большеземову-Фартуку и уж наверняка бритоголовому уполномоченному Любохвату предметы.
Но что утеряно, то утеряно. А вот темно-коричневые фигурки либо путников, либо мудрецов-созерцателей оказались очень уместными. Без их присутствия, без их облика, без их посохов и без оленей, прильнувших к сидящим путникам, одну из загадок Шеврикука мог бы и не решить. Но точно ли марьинорощинское происхождение имели странники и мудрецы? Не были они словесно приписаны к раскопу и его культурным слоям экспедитором Пэрстом-Капсулой, а отлили их и покрасили хитроумные умельцы в мастерских Отродий Башни, дабы растяпа и простак Шеврикука, встрявший (или намеренно включенный) в чужие игры, помог кому-то своими открытиями и действиями произвести должный ход?
Возникало у Шеврикуки желание сейчас же повести с подселенцем разговор. Но случилась бы от разговора польза? Вряд ли. Герои или злодеи редко вступают в беседы с теми, кто оказываются у них «хвостами», и уж никогда не лезут им в души. К тому же вдруг Пэрст-Капсула был все же невинен и благороден помыслами? Ничего, кроме оскорблений и обид, от беседы с ним не вышло бы.
«Может, его хоть о фарфоровом бульдоге расспросить? – раздумывал Шеврикука. – Что там внутри копилки звякает или гремит?» Однако по поводу фарфорового бульдога вызывать Пэрста-Капсулу Шеврикука себе запретил. Пусть Пэрст сам учует его сегодняшние заботы и именно сам явится к Шеврикуке с разговором.
Ко всему прочему, и без фарфорового бульдога для Шеврикуки достаточно сошлось и открылось. Возможно, открылось и нечто лишнее. Возможно, открылось и то, в употреблении чего не было никакой надобности.
Но пока и вообще никакой надобности употреблять возложенные на Шеврикуку привилегии и обязанности не существовало.
«И прекрасно!» – заключил Шеврикука.
При этих его мыслях (и как выяснил позже Шеврикука: совершенно не в связи с его умственными напряжениями, а по собственным эгоистическим причинам) в Останкино залетела почти позабытая здесь сила. Чуть ли не искорежила Землескреб, вызвала скрежет утвари и битье стекол, Шеврикуку же между левым ухом и глазом укусила пчела, боль не осталась у глаза, а принялась метаться по Шеврикуке где уколами, где ударами, где секундными, но протяженными движениями, заставлявшими Шеврикуку вскрикивать и стонать. Он испытывал боли (с переходами и возвращениями их) в голове (зубные, в ушах, и веки его подергивались), в бронхах (кашель), в легких, в сердце, в печени, в пищеводе и кишках, а следом взнывали подагрически суставы больших пальцев ног. Так продолжалось минуты четыре. Потом, пчелиным жалом продрав правую пятку Шеврикуки, боль вынеслась из него.
Землескреб уже не корежило. Мебель вернулась в углы предназначений. Стекла блестели почти без ран, лишь кое-где на них остались мелкие трещины. Шеврикука обязан был их убрать. Дыхание его стало ровнее. Боли, при отсутствии их, забылись. На время.
«Так! Та-а-ак, – соображал Шеврикука. – Так! Посетил Останкино Блуждающий Нерв. Что и было обещано. Напомнил о себе возобновлением знакомства…»