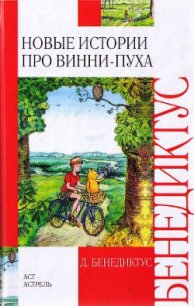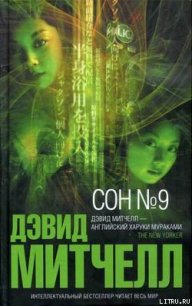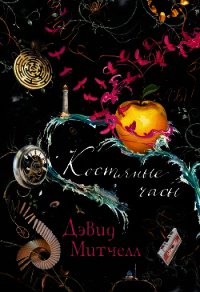Простые смертные - Митчелл Дэвид Стивен (читать книги полностью без сокращений бесплатно .txt) 📗
Я поднялся наверх, и мой электронный гид упомянул мимоходом, что мистер и миссис Лакснесс занимали разные спальни. Ну что ж, ясно. В моей душе тут же отозвалась все та же проклятая болезненная струна. Пишущая машинка Лакснесса стояла на письменном столе – точнее, машинка его жены, поскольку именно она перепечатывала его рукописи. Свой первый роман я тоже печатал на машинке, а вот роман «Ванда, портрет маслом» был создан уже на купленном в комиссионке компьютере фирмы Бриттана, который папа подарил мне на день рождения. И с тех пор лэптопы сменяли друг друга один за другим и с каждым разом становились все легче и все надежней. Для большинства писателей электронной эры писательство – это, по сути дела, переписывание. Мы ищем нужное буквально ощупью; создаем отдельные блоки, потом склеиваем их и переклеиваем, промывая на экране компьютера груды всевозможного мусора в поисках крохотных крупиц золота, стирая и отправляя в корзину тонны всякой чуши. Наши предшественники-писатели были вынуждены полировать каждую строчку в уме, прежде чем механически перенести ее на бумагу. Перепечатка стоила им месяцы работы, метры ленты для машинки, пинты «мазилок» для исправлений. Бедолаги!
С другой стороны, если электронная технология считается поистине превосходной повивальной бабкой, облегчающей появление романов на свет, то где они, шедевры нашего века? Я вошел в маленькую библиотеку, где Лакснесс, похоже, хранил излишки собственной продукции, и наклонился, чтобы прочесть названия книг. Я был поражен: очень много книг, причем в твердой обложке, на исландском, датском, немецком, английском… и, будь я проклят, мои «Сушеные эмбрионы»!
Погодите-ка, это же издание 2001 года…
…а Лакснесс умер в 98-м, правильно?
Ну что ж, будем считать, что это добрый жест со стороны Тайного Народа.
Когда я спускался, навстречу мне вереницей пробирался целый отряд тинейджеров. Интересно, а на какие школьные экскурсии ходят в Монреале Джуно и Анаис? К сожалению, я ничего об этом не знал. Что я за отец – на таком расстоянии! И видимся мы лишь время от времени. А эти исландские дети XXI века с наушниками в ушах словно выделяли сквозь поры нордическую уверенность в себе и ощущение полного благополучия; даже парочка афроисландцев и девочка в мусульманском платке, что были в той же группе. У всех этих детей первая цифра в дате рождения была «2»; всем им достаточно было слегка коснуться дисплея, чтобы тут же получить всю необходимую информацию. От них пахло современными кондиционерами для волос и тканей. На их совести не было ни царапинки, ни щербинки, как на новеньких автомобилях, выставленных в торговом салоне; и все они стремились оказаться на центральной сцене нашего мира и оттуда бросить вызов нам, старым пердунам, и нашим убогим партиям пенсионеров. Впрочем, я не сомневался, что они будут относиться к нам не только покровительственно, но и вполне доброжелательно, как поступали и мы по отношению к нашим «старикам», когда сами были юными и прекрасными. Последним по лестнице поднимался учитель, который благодарно мне улыбнулся, проходя мимо, и у него за спиной открылось высокое изящное зеркало, в котором целиком отражалась вся лестница. На меня, точно из глубокого прямоугольного колодца глянул некто страшно изможденный и осунувшийся, но весьма похожий на… Энтони Херши. Ничего себе! Значит, мое превращение в папу завершено? Неужели какой-то злой дух, порождение Асбирги, высосал из меня остатки молодости? Как же сильно поредели мои волосы! Кожа выглядела усталой, глаза были красные, точно налитые кровью; складки на шее отвисли, как у индюка… Я призвал себе в утешение цитату из Рабиндраната Тагора: «Юность – это конь, а зрелость – колесничий». Стареющие губы – в точности губы моего отца! – скривились в усмешке, и я сказал себе: «Вот только колесничего я что-то не вижу! Передо мной жалкий преподаватель социологии из третьесортного университета, которому только что сообщили: его кафедра расформирована, поскольку никто, кроме самих преподавателей социологии будущего, социологию больше не изучает. Ты просто шутка, мальчик. Слышишь меня? Шутка».
Лучшая пора моей жизни уходит, уходит, почти прошла…
Пока я тащился обратно к «Мицубиси», ожидавшему меня на маленькой парковке, я вытащил телефон, чтобы посмотреть, который час, и обнаружил послание от Кармен Салват. Хотя и совсем не такое, какое я, пожалуй, хотел бы получить.
Здравствуй, Криспин. Не могли бы мы поговорить? Пожалуйста! Твой друг К.
Я вздохнул. Моя душа все еще страдала после насилия, которое надо мной только что учинили, но я уже потихоньку стал приходить в себя. Мне не хотелось снова выпускать эмоции на свободу, а потом снова брать себя в руки. Мы стараемся переварить свои эмоции в себе, а печаль по поводу утраченных отношений была вовсе не той эмоцией, которую мне в данный момент хотелось бы снова в себе переваривать. Да еще и это выражение «твой друг»! Оно, по сути дела, означало: «мы никогда больше уже не будем вместе». А «здравствуй» вместо обычного «привет» – это просто текстуальный эквивалент холодного воздушного поцелуя, а не сердечных объятий.
Может быть, нам лучше какое-то время вообще ни о чем не говорить, если ты не против? Мне все еще больно, а я устал от боли. Извини и не обижайся. Будь здорова. К.
Я отправил свое послание и тут же пожалел об этом: мои слова звучали, пожалуй, слишком обиженно, даже с какой-то жалостью к самому себе. И шум реки вдруг показался мне раздражающе-громким: черт побери, как это Лакснесс ухитрялся тут работать? Собиравшиеся в небе облака были подбиты свинцового цвета опушкой, а не светло-серой, как обычно. Клонившийся к закату день с его пересекающимися значениями образовывал некий кроссворд, который мне было не разгадать, и это меня отнюдь не вдохновляло, как могло бы быть раньше. Я, конечно, не такой хороший писатель, как Хальдор Лакснесс. Я даже не такой хороший писатель, каким был Криспин Херши в молодые годы. Я просто такой же далекий от совершенства, а проще сказать дерьмовый, папаша, как и мой собственный отец, только его фильмы проживут гораздо дольше, чем мои чересчур многозначительные романы. Моя одежда была в полном беспорядке, хотя в половине восьмого была назначена лекция. Корочка на моих сердечных ранах еще похрустывала, и мне совсем не хотелось позволять Кармен, моей бывшей испанской возлюбленной, снова растравлять раны.
Нет. Мы не могли бы поговорить! Я выключил телефон.
– Итак, моя лекция называется «Как никогда не думать об Исландии».
В Доме литературы собралось довольно приличное число людей, но, по крайней мере, половина из этих двух сотен явилась из-за концерта «Bonny Prince Billy», а немногочисленные обладатели благородных седин пришли, потому что любят папины фильмы. В зале было всего три знакомых мне лица: Холли, Аоифе и Орвара, бойфренда Аоифе. Они сидели в первом ряду, дружески мне улыбались и вообще всячески меня поддерживали.
– Это катастрофическое с точки зрения английского языка название, содержащее сразу два отрицания, – продолжал я, – образовано из апокрифического замечания У. Х. Одена, высказанного здесь, в Рейкьявике, и, насколько я знаю, с этой же самой кафедры, только он тогда выступал перед вашими родителями или вашими бабушками и дедушками. Оден сказал, что, хоть он и прожил жизнь, отнюдь не думая об Исландии каждый час или хотя бы каждый день, но тем не менее «никогда не мог не думать о ней». Как это изящно, как загадочно сказано! Ну, почему было просто не сказать: «Я всегда думал об Исландии»? А потому, разумеется, что двойные отрицания, недопустимые в английском языке, – это контрабандисты истины и самые умные цензоры на свете. И сегодня вечером я бы хотел поддержать это двойное отрицание Одена, – я торжественно поднял левую руку ладонью вверх, – а также его дважды осмысленное утверждение, что для того, чтобы писать, – я поднял ладонью вверх правую руку, – вам нужны карандаш или ручка и какое-то место, стол или кабинет, пишущая машинка или лэптоп, «Starbucks» поблизости и так далее. Впрочем, все это не имеет значения, потому что ручка и рабочее место – это просто символы, символы средств производства и традиций. Поэт пользуется ручкой, чтобы писать, но, разумеется, поэт не создает эту ручку. Он покупает, берет взаймы, наследует, крадет или еще каким-то образом добывает себе эту ручку. Сходным образом поэт существует внутри некой поэтической традиции, он пишет в рамках этой традиции, но никому из поэтов не дано в одиночку создать новую традицию. Даже если поэт берется за создание новой поэтики, он способен действовать, только отталкиваясь от уже существующего. Джонни Роттена не было бы без «Bee Gees». – Удивительно, но я так и не сумел высечь ни одной искры из моей исландской аудитории: может быть, «Sex Pistols» никогда не забирались так далеко на север? Холли улыбалась мне, и я, посмотрев на нее, вдруг встревожился, такой худой и измученной она мне показалась. – Возвращаясь к Одену, – продолжил я, – и к его «никогда не». Вот что лично для себя я извлек из этого выражения: если вы пишете художественную прозу или стихотворения на одном из европейских языков, то ручка, которую вы держите в руках, некогда была тем гусиным пером, которое держал в руке исландец. И совершенно не важно, нравится ли вам это, понимаете ли вы, что именно так. Если вы стремитесь выразить в своем прозаическом произведении красоту, правду и боль этого мира, если хотите углубить характер через диалог и действие, если пытаетесь в художественной форме объединить личные переживания, прошлое страны и политические события, то вы преследуете те же цели, что и авторы древних исландских саг, жившие в этих местах семь, восемь или даже девять столетий назад. Я утверждаю, что автор «Саги о Ньяле» использует те же самые нарративные приемы, которые впоследствии были использованы Данте и Чосером, Шекспиром и Мольером, Виктором Гюго и Диккенсом, Хальдором Лакснессом и Вирджинией Вульф, Элис Манро и Эваном Райсом. Какие именно? Перечисляю: психологическая сложность и постоянное развитие характеров; линия убийцы, завершающая центральную сцену; злодеи, способные на добродетельные поступки, и положительные герои, запятнанные злодейством; предзнаменования и ретроспективы; искусное введение читателя в заблуждение и так далее. Я отнюдь не пытаюсь сказать, что писатели Античности не знали всех этих приемов, но, – здесь я поставил на кон и свои козыри, и козыри Одена, – в исландских сагах впервые в западной культуре отчетливо проявляется творчество безвестных протороманистов. За полтысячелетия до появления печатного слова эти саги были, по сути дела, первыми в мире романами.