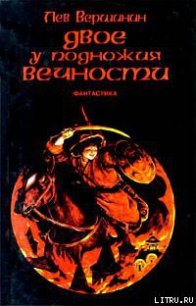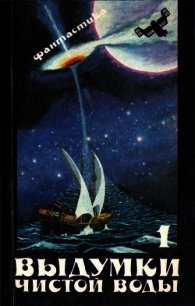Возвращение короля - Вершинин Лев Рэмович (книги без регистрации .TXT) 📗
Ллан недоуменно приподнял бровь. Крик умолк. Баба исчезла. Подхватив лазоревого под руки, стражи поволокли его влево. Он, по недосмотру несвязанный, вывернулся ужом из крепких рук и, воя, бросился назад. Головой вперед промчался мимо Ллана, едва не задев его, и рухнул в ноги спрыгнувшему с коня щеголеватому всаднику.
– Ыыыыыыыыыыыыыыыыыыы!
Не глядя на скулящего, Вудри подошел вплотную к Ллану.
– Отец Ллан, – прыгающие усы выдавали, как трудно Степняку сохранять хотя бы видимость спокойствия; заметно дрожали посеревшие губы, в округлившихся глазах – ярость. – Это Глаббро, мой порученец… С самого начала. Со степи! Понимаешь?
Вот оно что. Еще со степи. Разбойник…
Ллан сглотнул комок. О Вечный, как мерзко! Смоляная бородка и кроваво-алые губы. Лик распутника и плотеугодника. Он зовет себя Равным, а по сути – тот же Вудри Степняк. Всадники не без его ведома нарушают Заветы. Лазоревые же позволяют себе и непозволимое. Они глухи к Гласу Истины. И первый среди них преступник – сам командир. Хвала Вечному, что король мудр. Он слушает всех, но кивает, когда говорит Ллан. Воистину, Старым Королям ведомы были чаяния пашущих и кормящих.
Медленно обнажается провал рта.
– Нет равных больше и равных меньше, друг Вудри. Порок не укрыть ничем, даже лазоревой накидкой. Пусть же для твоих людей печальная участь сего юноши послужит уроком. И в сердцах всадников да воссияет свет Истины.
Стражи склоняют копья, направив в грудь Вудри тяжелые клиновидные острия. Пальцы Степняка сползают с рукояти меча, украшенной алым камнем. Ярость в глазах вспыхивает уже не белым, а ослепительно-бесцветным. Обронив мерзкое ругательство, Вудри взлетает в седло.
– Ыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы! – истошно, уже не по-людски.
Теперь распластанный Глаббро связан. Стражи Судии не повторяют ошибок. Ночью тех, кто забыл о веревке, достойно накажут – для их же блага, на крепкую память.
– Ы-ыыыыыыыыыыы! – уже из ямы. И, подвывая, заводят крик остальные сброшенные, смирившиеся было, но взбудораженные воплем труса.
Шелестят листья, но шепот их глушат крики. Стражи выстраиваются вдоль сыпучих краев ямы. Там, на дне, слоями – люди. Их не много и не мало, все, кто ныне был выставлен на суд Высшего. Негоже томить долгим ожиданием даже тех, кто недостоин милости.
На мягкий, оползающий под ногами холмик поднимается Высший Судия. Лик его вдохновенен.
– Дети мои! – звенит, переливается высокий и сильный голос опытного проповедника. – Разве неведомо, что цена Истине – страдание?
Словно к самому себе обращается. Ллан. Никто не слышит, если не считать стражей; но они – всего лишь руки Высшего. И случись рядом: чужой, он поседел бы, поняв вдруг, что именно тем, кто в яме, проповедует Судия.
– Кому ведом предел горя? Никому, кроме Вечного. Но если пришел срок искупления, то грех – на остающемся в стороне. Истина или Ложь. Третьего не надо. И тот, кто замыслил отсидеться в роковой час, кто презрел святое общее ради ничтожного своего, – враг наш и Истины. Жалость на словах – пуста. Любовь – пуста. И добросердечие – лишь слуга кривды. А потому…
Крепнет, нарастает речь.
– А потому и вымощена святой жестокостью дорога к Царству Солнца. Мы придем в его сияющие долины, и поставим дворцы, и низшие станут высшими, а иных низших не будет, ибо настанет время равных. Тогда мы вспомним всех. И простим виновных. И попросим прощения у невинных, что утонули в реке мщения. И сам я возьму на себя ответ перед Вечным. Тогда, но не раньше…
Ллан смотрит вниз, в выпученные глаза, глядящие из груды тел.
– И если вместе с Правдой придет бессмертие, мы вымолим у Четырех Светлых заступничества; они предстанут пред Творцом и он, во всемогуществе своем, вернет вам жизнь, которую ныне отнимают у вас не по злобе, но во имя Правды. Идите же без обиды!
– Ыыыыыыыыыыыыыы! – не обрываясь ни на миг, летит из ямы.
Ллан склоняет голову и бросает вниз первую горсть земли.
9
– Пой, менестрель!
И я пою. Пою «Розовую птичку», и «В саду тебя я повстречаю», и, конечно, «Клевер увял, осень настала», и снова «Розовую птичку»; другого мне не заказывают. Я уже хриплю и наконец меня отпускают, щедро накидав медяков, но на следующем углу – снова хмельные лица и тяжелое дыхание; вокруг опять толпа, мне преграждают дорогу, заставляют скинуть с плеча виолу.
– Пой, менестрель!
И я пою.
Честно говоря, из всех бардов, менестрелей и прочих Любимцев Муз, виденных мною, я – отнюдь не первый. И не второй. И даже не третий. Раньше это было поводом для серьезного комплекса: когда мы собирались и по кругу шла гитара, я мог только читать собственные стихи. Стихи неплохие, с этим не спорил никто, но все же между стихами и песней есть разница: в стихи нужно вдумываться, а песню можно и просто слушать. А кому же хочется в хорошей компании да под коньячок еще и думать?
Освоить гитару как-то не вышло – то ли пальцы не на месте, то ли терпения не хватило. Но для императорских наемников, заполонивших набережную, мое пение вполне сносно: кое-что, хотя бы ту же «Розовую птичку», приходится бисировать. Этим я, опять же, отличаюсь от истинного барда: ни Ромка, ни Ирка не станут петь одно и то же дважды, а Борис вообще скорее съест гитару, чем так опустится. Но им легко блюсти принципы: они не служат в ОСО.
Наемники слушают истово, подпевая в наиболее жалостных местах, иные даже всхлипывают. Почему-то именно такие вот мордовороты в форме, да еще, пожалуй, уголовники, особенно любят послушать «за красивое». А в общем, чего уж там: Багряный почти что под стенами; чтоб дурные мысли не копошились, ратникам выдали аванс на выпивку, каковую они уже приняли, а теперь, понятно, желают отвлечься и послушать о земных радостях…
– Пой, менестрель!
Но я молитвенно складываю руки на груди. Славные удальцы, милые смельчаки, защитники наши, гордость наша и слава, почтеннейшая публика! Бедный певец готов стараться для вас хоть до полуночи, но пощадите мое слабое горло! – позвольте промочить его жалкой кружкой эля, теплого зля, а потом я снова к вашим услугам!
И толпа размыкается. Солдаты добродушно ворчат, меня похлопывают по плечу, благодарят, кто-то грамотный просит списать слова «Птички», я обещаю, отшучиваюсь, обмениваюсь рукопожатиями… и наконец вырываюсь с набережной на волю, в переулочек, ведущий к чистым кварталам, туда, где обрывается цепочка харчевен, трактиров, домов короткой радости и прочих злачных мест, получающих сегодня, как, впрочем, и вчера, тройной против обычного доход.
После лихорадочного разгула набережной чистые кварталы кажутся тихими. Хотя, какая там тишина! – город полон беженцев; они набились по три, по четыре семьи в комнаты доходных домов, в ночлежки; кто победнее, обосновался прямо на улицах, поставив навесы, а то и просто на камнях. Уже десять дней, как император запретил впускать в столицу новые толпы. Все правильно: цены подскочили; то тут, то там уже вспыхивают непонятные, но очень нехорошие болезни, каналы загажены, ходить ночами небезопасно.
Все правильно, но те, кого не впустили, сидят под стенами города, жмутся к воротам, плачут, умоляют, пытаются подкупить; их тоже нужно понять – Багряный на подходе.
Церкви забиты до отказа, молебны идут круглосуточно, служители валятся с ног у алтарей, они уже не поют, даже не сипят, а шепчут невнятно, подменяя друг друга, но их и не слушают: каждый молится сам, за себя – но все об одном: уцелеть, ежели Вечный попустит Багряному одержать верх.
Повсюду – вооруженные, их очень много: городская стража, рыцари, их свиты, оруженосцы, пажи, доверенные дружинники; считай, вся империя в сборе, все наречия, все жаргоны. Поклоны, приветствия, похлопывания по плечам – и все это как-то натужно, неубедительно, с надрывом… вроде галдежа на набережной. Только братья-рыцари безгласны; эти бродят по улицам плотными фиолетовыми семерками, ни на шаг не отставая, почти не глядя по сторонам. Им легче, чем остальным: дух Братства превыше грешной суеты. А кроме того, говорят, приоры семерок каждый вечер сдают в канцелярию магистра отчеты о прошедшем дне и о поведении вверенных их отеческому надзору братьев, всех вместе и каждого в отдельности.