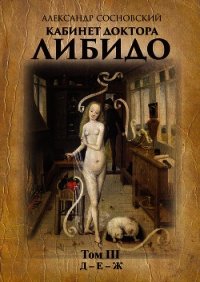Восковые фигуры - Сосновский Геннадий Георгиевич (версия книг .TXT) 📗
На балконы выскакивали испуганные жильцы, думая, что началось землетрясение.
На забастовщика жалко было смотреть, он выглядел морально раздавленным. В свою очередь, Сидор Петрович получил наглядный пример того, как надо работать профессионально. Чего стоили все его жалкие потуги! Когда трибунарии удалились, председатель комиссии поманил Захаркина пальцем — Леня с торопливой готовностью подставил ухо.
— Так что будем делать?
— Что скажете!
— Слушай меня и запоминай. Говорить будешь так, если кто-нибудь спросит: мол, выпил, погорячился, написал сдуру — это насчет заявления, — окосел, ничего не помню, отшибло память, не стоит придавать значения… Все понял? — Захаркин просветленно кивал. — Завтра же на работу!
— Так точно!
— К семи часам утра!
— Будет сделано!
Сидор Петрович направился к выходу не прощаясь. Но тут Захаркин заскрипел кушеткой, вздохнул шумно, как жвачное животное на покое.
— Ну что там еще? — Заместитель остановился.
— Сорок…
— Что — сорок?
— Сорок рупчиков… Обещали допомогти… На лекарствие и всякое такое. Болеем мы…
Председатель комиссии на некоторое время потерял дар речи, сраженный таким беспримерным нахальством. Он задыхался, стуча челюстью, рука судорожно шарила в кармане, ища валидол.
— Стяжатель! Корысто… корыстсблюдец! Вы уволены! Попрать все самое святое… Мы к нему — чуткость… Как на рынке! Безарбузие!
— Убивать таких надо! — визгливо крикнула страхделегат, ее круглое, миловидное лицо сделалось злым и некрасивым.
У выхода дорогу преградил старшой, стоявший наготове с бланком заказ-наряда.
— Шеф, не забудьте оценочку, не обижайте хлопцев! — Сидор Петрович не удостоил его даже взглядом. Грело лишь чувство легкого злорадства по поводу неудачи, постигшей трибунариев.
А те, наступая друг другу на пятки, ввалились в комнату. Захаркин, утомленный разговором, уронил голову на подушку и тихонько посапывал, а затем и вовсе захрапел, как пьяный командированный в гостиничном номере. Старшой озадаченно скреб в затылке.
— Да, братцы, чего-то мы недодумали, недоработали!
Некоторое время с нездоровым любопытством наблюдали за безмятежно спящим забастовщиком. Трудно сказать, что снилось Захаркину в эти последние минуты его беспутной жизни, если, конечно, допустить, что то была жестокая действительность, а не привидевшийся с перепою кошмар. Старшой чуть наклонил голову как бы в поэтической задумчивости и заговорил нараспев былинным речитативом:
«Ой вы, гой еси, добры молодцы! Вы друзья мои, други верные! Не дадим супостату, злому ворогу над дружиною нашей глумитися!»
Это был знак того, что можно начинать. Один из трибунариев с внешностью боксера тяжелого веса, косая сажень в плечах, взял Захаркина за прекрасные кудри и тихонько, даже как бы ласково приподнял, примериваясь взглядом и прицеливаясь. Леня бормотал во сне что-то несерьезное. В следующую секунду огромный кулак раздробил ему челюсть — зубы вылетели и как орехи посыпались на пол. Захаркин, охнув, стал медленно оседать, будто сломался в нескольких местах сразу. Некоторое время трибунарии работали ногами, как на футбольном поле, пока не устали и не вспотели. Хлопцы не скрывали разочарования: Захаркин скончался от экзекуции, которую другой на его месте мог свободно перенести, отделавшись лишь несколькими переломанными ребрами. Это было тем более досадно, что его в сущности и не хотели убивать, а хотели только проучить, на ум наставить, чтобы не валял впредь дурака. Стояли, смотрели, вытирали лбы. А может, и не скончался, а придуривается. Положили на кушетку и накрыли уже знакомой нам простыней цвета прелой соломы, той самой. Из-под нее жутковато выглядывали ступни ног какого-то дурацкого цвета, красно-синего. Сделали погромче радио — это чтобы покойнику веселее лежалось. Иосиф Кобзон исполнял что-то лирическое.
Трибунарии построились на улице. Грянула лихая строевая. Звонкий кованый каблук высекал искры из каменной мостовой.
Бессознательно замедляя шаг, страхделегат шла по усыпанной гравием дорожке городского сквера. На тенистых скамейках чинно восседали бабушки, недреманным оком наблюдая за своими чадами. Одинаковое бремя ответственности делало их чем-то похожими друг на друга. Ах, какое это счастливое бремя — дети! Страхделегат не спешила, ей спешить некуда было, дома никто не ждал.
На душе было гадко. Почему она сказала Захаркину эту ужасную фразу: «Убивать таких надо»? Что ее заставило? Привычка бездумно повторять чужое, как свое собственное? Из всех пороков пьянство в ее глазах было наихудшим, а сейчас она задала себе вопрос: не потому ли и пьют, что хотят заполнить пустоту души, от одиночества и беспросветности жизни? Сейчас ей хотелось оправдать Захаркина в своих глазах.
Личная жизнь не удавалась, все, что было, кончалось ничем. Казалось, важным было не это, а что-то другое, связанное с необходимостью жертвовать собой во имя высокой цели. И теперь, когда ее уделом стало одиночество, волей-неволей оставалась одна отдушина — работа, работа, ей она и отдавалась, не жалея сил, лишь бы чем-нибудь заполнить время, ставшее ее лютым врагом. На ближайшем отчетно-выборном собрании ей было поручено делать содоклад, и Маша, пока шла, придумала несколько удачных фраз и, чтобы не забыть, несла их в себе, как воду в тарелке, боясь расплескать.
На широкой тахте свернувшись дремала кошка. При виде хозяйки выгнула спину, выпустила когти и с кошачьей страстностью стала царапать обшивку, за что получила шлепок по тощему заду. Страхделегат села за стол и задумалась. «Убивать таких надо!» И вдруг горячий ком подкатил к горлу, отшвырнула ручку и ничком бросилась на кровать. Рыдания сотрясали ее, коротенькая юбка горестно и беспомощно задралась, уткнувшееся в подушку красное некрасивое лицо стало мокрым от слез…
Потом как-то внезапно перестала плакать, успокоилась, встала и посмотрела на себя в зеркало. И засмеялась сквозь слезы. Решение пришло внезапно, как озарение, толчок к незамедлительному действию. Она здесь, а он там — есть ли в этом хоть капля здравого смысла? Движения, пока она приводила себя в порядок, пудрила нос, подкрашивала губы, были немного судорожны, щеки горели, глаза сияли. Лицо, смотревшее на нее из зеркала, было прекрасным.
Дверь в квартиру оказалась открытой. С сильно бьющимся сердцем страхделегат заглянула в щелку и увидела бледную ногу, торчавшую из-под простыни, — решила, что Захаркин спит. Тем лучше! Осторожно прошла на кухню. Здесь все запущено, все грязно, будто не мылось от начала века. Зато есть к чему руки приложить. И она немедленно принялась за дело.
Тот же примерно путь, в то же самое время проделал и Пискунов, которому не терпелось свести знакомство с Захаркиным, но никак не мог его дома застать.
Из кухни кощунственно доносилась веселая песенка. Увлеченная работой, страхделегат не заметила появления постороннего человека. Под ее руками все преображалось. Даже клеенка, не мытая со дня сотворения мира, вдруг приобрела вполне пристойную заводскую расцветку. Вопреки ожиданию, на кухне нашлись картошка и лук, не говоря уже о селедке, и страхделегат стала готовить еду на тот случай, если Захаркин проснется голодный.
Движение за дверью заставило ее насторожиться. Немного растрепанная, раскрасневшаяся от плиты и собственных волнений, готовая ко всему, и к лучшему, и к худшему, ибо в эту минуту решалась ее судьба, страхделегат появилась на пороге.
— Убийство при загадочных обстоятельствах, — задумчиво констатировал Пискунов. — Любовник проникает в комнату через форточку и отправляет любимого супруга в лучший мир, а жена в это время чистит картошку и распевает песенки, демонстрируя перед следствием свою непричастность к совершившемуся злодеянию. Но правосудие стоит на страже закона и покарает виновных! — Он многозначительно поднял палец.
Маша решительно ничего не понимала. Слова Пискунова не входили в сознание как реальность, имеющая отношение лично к ней. Кроме того, она не понимала, кто он и почему он здесь.