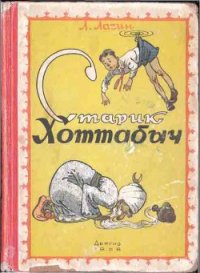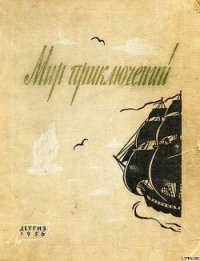Голубой человек - Лагин Лазарь Иосифович (читать книги без регистрации .txt) 📗
Фадейкин помахал ей рукой, попытался было с нею заговорить, но Симка с ним словно и знакома не была: совестилась, видно, постороннего молодого человека.
Фадейкина это нисколько не смутило.
– Видал? – подмигнул он Антошину. – Орел-девка!
– Твоя?
– Кабы моя! – вздохнул, прибедняясь, Фадейкин. – Она, брат, на меня нуль внимания, пуд презрения… Нет, ты посмотри только!..
Пыхтя от натуги, Симка, та, прежняя ее подружка и работница постарше выволакивали на свежий воздух новую жертву казенного вина.
– Ее, брат ты мой Егор, сам мастер боится, – похвастал Фадейкин, провожая Симку откровенно влюбленным взглядом. – Так отбреет, не рад будешь… На язык дюже какая лютая!.. Одно слово – прынцесса!..
Сгустились ранние зимние сумерки. Народу на дворе стало меньше, шума в столовой поубавилось. За одним из залитых пивом и заваленных остатками закуски столов какая-то бедовая девчонка высоким надтреснутым голоском затянула вдруг «Ивушку».
начала она с такой безыскусной задушевностью, что у Антошина мороз по коже пробежал.
Бабы в столовой приумолкли. То ли устали от многочасового неуютного веселья, то ли не решились подхватить, но девушка так и продолжала свою песню одна-одинешенька на всю огромную, полутемную, провонявшую дурными щами столовую.
и горько отвечала она самой себе,
Натужно, словно с трудом переваливая через высокие минделевские заборы, звучали паровозные гудки с недалекого Павелецкого вокзала. В морозную черноту зимнего вечера, в сосновые, еловые, березовые дали, в волнистые просторы заснеженных полей, полные свежего, сладкого воздуха, убегали, весело постукивая на стыках рельсов, желто-сине-зеленые составы пассажирских, скорых и курьерских поездов. Кто знает, где они будут завтра, через неделю, через месяц, через год – счастливые пассажиры этих дальних поездов?
А вот минделевским мастеровым людям очень даже хорошо известно, где они, мастеровые люди, будут и завтра, и через неделю, и в будущем году: все на этом же трижды проклятом дворе, за этим трижды проклятым забором. Все наперед известно, и это очень, знаете ли, страшно, когда тебе наперед известно: каждый день, кроме воскресений и праздничных дней, одно и то же: в пять утра из казармы в цех, в восемь вечера из цеха домой, в казармы. Хлебнул пустого, без сахару, кипятку – и на нары спать. Спишь, и никаких ты от усталости не чувствуешь ни клопов, ни тесноты, ни тяжелого, невыносимо спертого воздуха в спальне, ни жесткости дощатых нар, ни сдержанной возни семейных пар, которым не хватило мест в семейных казармах и которые с разрешения начальства раз в неделю допускаются к исполнению своих супружеских обязанностей под нарами, ровно крысы какие, прости господи. А в пять утра снова в цех, а в восемь вечера снова домой, хватить на ходу кусок хлеба, кружку кипятку и без задних ног падать на нары и снова проваливаться в черную яму тяжелого, каменного сна. И только по праздникам, по воскресным дням развлечение: церковь, за воротами лавочка с грошовыми гостинцами, обед без будничной гонки и блаженный сон днем, сон сколько влезет. И чарочка в ближайшем трактире. И мечты о будущем великом дне осеннего пропоя помоев и воспоминания о прошлом пропое…
продолжала жаловаться девчонка в притихшей столовой,
Теперь притихли и слонявшиеся по двору рабочие. По случаю воскресного дня в цехах огней не было, на дворе, в рассуждении экономии, горел один фонаришко. Небо было черное. В сплошных низких тучах.
Давно перестали драться те первые две работницы. Исцарапанные, растерзанные, с кое-как подобранными под платок волосами, они сидели рядышком на крылечке и тихонько всхлипывали.
Подозрительно посапывала и та, молодая, молчаливая, которую перестали наконец корить за что-то, видно очень обидное и горестное, ее две старшие подруги. И эти две, подруги ее старшие, тоже пригорюнились, слушали песню их далекого детства, далекой и невозвратимой деревенской жизни. Отсюда, из чадной грязи минделевского каторжного централа, та, прежняя безысходно нищая деревенская жизнь казалась им невообразимо прекрасной, раздольной: без штрафов, без мастеров и хожалых, от которых нет тебе спокою ни на работе, ни после работы, даже ночью, без оглушающего стука машин, без грязи и вони красок, без злой хлопчаткой пыли, без наглого, приставучего фабричного жандарма. Далекая, невозвратимая деревенская жизнь с ясными зорями, с самоцветными росами, с соловьями по далекой и быстролетной девичьей весне!..
И вдруг там, в столовой, не стало тишины. Грянуло многоголосое, нестройное и очень пьяное «ур-р-ра-а!». В столовую под руководством самого господина табельщика Зосимы Лукича Африканова вкатили последний бочоночек водки от неизбывных и отеческих щедрот господина Густава Минделя и компания… Снова загремели по мокрым столам жестяные чайные кружки. Веселие продолжалось.
Выскочила на двор Симка. Простоволосая, в пальтишке, накинутом не в рукава, быстрая, разгоряченная, энергичная.
– Сим, а Сим! – тихо и как-то с несвойственной ему робостью окликнул ее Фадейкин. – Подь сюда! Сима нехотя подошла. Стеснялась Антошина.
– Это Сима, – представил Фадейкин девушку своему новому приятелю. – А это мой друг, Егором звать. Фамилия ему Антошин, Егор Антошин… Я тебе о нем говорил…
Симе, видно, было и совестно и любопытно. Она метнула на него быстрый взгляд. На дворе было уже изрядно темно, и вряд ли она могла хорошо разглядеть Антошина.
С минуту длилось молчание.
– А здорово вы, Сима, старушек спасали! – нашелся наконец Антошин.
Должно быть, Симе вспомнилось что-то смешное. Она прыснула, деликатно прикрыв рот кончиком платка.
– Простудишься! – сказал ей Фадейкин. – Надень в рукава, застегнись.
Все еще улыбаясь каким-то своим веселым мыслям, Симка, к удивлению Антошина, послушно надела пальтишко в рукава, застегнулась, шумно вздохнула, как после благополучно завершенного хлопотного и нелегкого дела:
– Ну чисто дети какие, право слово!..
Помолчала, задумалась, с лица ее исчезла улыбка.
– Ну разве это бабье дело – водку хлестать? Она ж горькая!.. А они, дурехи окаянные, пьют… Морщатся, плюются, а пьют!.. И рвет их, бедняжечек, в три погибели коробит, головы ихние глупенькие ну прямо лопаются от боли, а они, дурехи, пьют!.. Это ж что!..
– Дуры. Конечно, дуры, – сказал Фадейкин, главным образом для того, чтобы подладиться к Симке. Но та на него вдруг накинулась:
– Дуры, говоришь?! Все вы, мужики, на одну колодку!.. Бабы дуры!.. Бабы дуры!.. А вот мы, дескать, мужики, и умны, и собой хороши, и живем правильно, а уж водку пьем – прямо залюбуешься, до того, красота!.. Так, что ли? А под подол к вам мастер или, скажем, хожалый лазил?.. Щипали вас кто ни попадя за разные места, а ты только молчи, а то хуже будет?.. Небось бабе поденной за день и двугривенного хватит, лишь бы нам, мужикам, сорок копеек платили!.. Так, что ли?.. Э-э-эх, мужики вы, мужики!.. Все вы такие!.. У-ха-же-ры!..