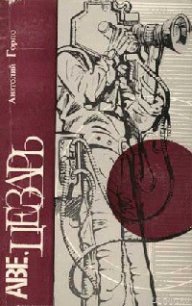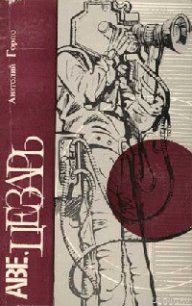Аве, Цезарь - Горло Анатолий Иванович (читаем книги онлайн бесплатно TXT) 📗
— Смердящий шедевр, Син-син, — угрюмо выдавил из себя Крус.
— Отличное определение, коллега! Заметьте, я неспроста назвал его «Девятым валом» — это вершина, но и конец искусства, дальше, как говорится, некуда, дальше — вы правы — смердящая бездна!… Вы никогда не задумывались о плачевной участи нашего искусства?…
Крус молчал, уставясь на режиссера невидящим взглядом, он тяжело переживал свое поражение — первое в биографии Ясноглазого Шпика Гурарры, — он чувствовал себя жалкой марионеткой и теперь ждал, за какую следующую нитку потянет его кукольник…
— Наверняка вы думали об этом. Ведь вы являетесь героем «Необыкновенных приключений» и, я уверен, вы не раз сравнивали экранного Круса с реальным, и это сравнение, конечно же, было не в пользу первого!… Извините…
Син-син потянулся к столику, проглотил горсть таблеток и откинулся на подушки:
— Если позволите, я вкратце изложу вам историю создания «смердящего шедевра». Беда в том, что большинство гураррцев — и вы в том числе, коллега, — всегда хотели видеть на экране больше жизни, а в жизни — больше искусства. Это неосознанное желание стереть грань между экраном и реальностью неумолимо привело к идее «Девятого вала», где эта грань полностью отсутствует: мой сериал в равной степени можно назвать и фактом жизненного искусства, и фактом искусственной жизни… Но я несколько забежал вперед, позвольте взглянуть, как там по сценарию…
Режиссер открыл последнюю страницу:
— Так, так… вспомнил!
Он вернул альбом Крусу:
— Сначала мы, гураррские художники, свято верили, что на экране, в отличие от жизни, должен царить иной закон, иной порядок — закон Красоты и порядок Гармонии, что там не должно быть пустот, которыми изобилует повседневщина, что там все должно быть прочувствованно, продуманно, предопределено личностью художника. Экран скуп, жизнь расточительна: в шестьдесят минут экранного времени можно вместить то, для чего в реальной жизни порой не хватит и шестидесяти лет! Мы, настоящие художники экрана, выступали в роли великих иллюзионистов на постном празднике жизни! Я снимал поэтические ленты о вечерних закатах, об облаках, о небе, откуда, по преданию, пришли наши предки…
Крус задумчиво глядел на гобелен, запечатлевший одну из самых больших иллюзий гураррцев — миф об их неземном происхождении. Заметив это, Сии-син потянулся к столику и нажал на кнопку. Гобелен тут же исчез, словно растаял в воздухе, и Крус увидел лишь ослепительно белую стену.
— Отвлекает, — как бы извиняясь, сказал режиссер. — Я создавал фильмы о Гармонии Вселенной!… Другие снимали лубочные картины о возвышенной любви бедного мечтательного юноши к прекрасной даме! Третьи развлекали зрителя вашими «Необыкновенными приключениями», обильно используя картонные кинжалы, глицериновые слезы и томатный сок вместо крови!… Но гураррцы быстро пресытились иллюзиями. Мои фильмы об облаках они даже не захотели смотреть, коллега! Им надоели мечтательные юноши и разодетые дамочки на экранах, и им на смену пришли раздетые! Им подавай голую реальность, но чтобы она была захватывающей, как искусство! Зрители требуют, чтобы все было взаправду, чтобы не глицериновые слезы, не томатный сок вместо крови, а настоящие слезы, настоящая кровь! Но и этого им мало, коллега! Они сотни раз могут смотреть кадры с убийством Бесса, но самое острое ощущение у них остается от первого раза, от прямой передачи!…
Син-син снова проглотил несколько таблеток:
— В этом парадокс гураррской цивилизации, коллега. Если на улице происходит убийство, гураррцы разбегаются, как тараканы, не решаясь смотреть на это даже сквозь опущенные шторы — чтобы не быть свидетелями, чтобы иметь чистую совесть. На экране же, коллега, им подавай самые изысканные блюда изуверства, притом крупным планом! Гураррец сидит, как вы, в мягком кресле, потягивает свой тройной или двойной ион, он в полной безопасности и, видя, как на экране кто-то корчится в предсмертных конвульсиях, гураррец не может не испытывать тайной радости, что он-то жив, ему-то ничегошеньки не грозит! И это чувство безопасности крепнет, переполняет его и превращается в чувство безнаказанности. Ему уже мало того, что все происходит взаправду и к тому же у него на глазах, сиюминутно. Гураррец уже жаждет пережить не только эффект присутствия, но и эффект участия! И тогда у меня родилась мысль о стреляющей камере, коллега!
Голос Син-сина становился все пронзительнее, он не говорил, а кричал:
— Я обрушил на гураррца свой «Девятый вал»! Я мстил этому трусливому зверью за пепел моих лент о блистательной гармонии вселенной! Вы возразите, что зрителей нельзя обвинить, они ведь не спускали никаких курков, понятия не имели, что камера, глазами которой они наблюдали за убийствами, — стреляющая. А вы представьте себе, коллега, что было бы, если бы в каждом телевизоре, рядом, скажем, с регулятором громкости находилась бы этакая симпатичная кнопочка, нажав которую, любой гураррец мог бы открыть беглыл огонь по всему, что покажется на экране?… Был бы конец света, коллега, бессмысленный, но закономерный!… Мой «Девятый вал» — это последний крик гураррца, стоящего над бездной, к которой, как стадо баранов, несутся его соотечественники. Это последняя попытка остановить их — что-то вроде доказательства от противного, от очень противного, коллега!
Син-син задыхался, судорожно глотая воздух:
— Поэтому, коллега, я рад, что вы оказались на высоте и остановили «Девятый вал»! Если бы вы этого не сделали, скажем, из-за трусости Фоббса или из-за отчаянной смелости Зольдатта, которого вы опередили на какую-то долю секунды, это бы сделал я. Последняя страница моего сценария как раз оставлена для исповеди, которую вы только что услышали. С ней я хочу обратиться к телезрителям. И я непременно сделаю это, как только встану на ноги… Так что передайте Фоббсу — пусть готовит для меня электростул… только помягче — я не люблю сидеть на жестком!…
Лицо Син-сина озарила улыбка слегка напроказившего ребенка:
— И желательно оранжевый стул — это цвет облаков на закате. Моих облаков…
В это время стена, где недавно висел гобелен, бесшумно разошлась в стороны, образовав длинный коридор, и воркующий женский голос вежливо объявил:
— Господину Син-сину надо отдохнуть. Пожалуйте сюда, господин Крус.
Детектив положил сценарий на столик, глянул на режиссера.
Тот спал, откинувшись на подушки, с застывшей улыбкой провинившегося шалуна.
Пребывая в состоянии оцепенения, Крус не заметил, как миновал ряд раздвижных перегородок, которые плотно смыкались за ним, как створки чудовищных раковин…
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.
Ночь гнева
I
Леденящие порывы ветра загнали в гнезда, щели, норы, логова, берлоги все порхающее, бегающее и пресмыкающееся население Барсова ущелья.
Ева лежала в глубине хижины, пугливо прислушиваясь к завываниям ветра.
Ирасек сидел у входа и, придерживая рукой рвущийся полог, листал Оранжевую книгу.
— Ирасек… — тихо позвала Ева.
Юноша встрепенулся:
— Да, подруга моя!
— Ты когда-нибудь слышал плач покинутого матерью ребенка?
— Нет, голубка моя, это, должно быть, очень грустная картина! А почему ты спрашиваешь?
— Не знаю, милый. Последнее время все, что я вижу и слышу, напоминает мне нашего ребенка…
— Нашу Атимус, подруга моя! Мы ведь договорились, что у нас родится дочь, что она будет такая же прекрасная, как ты, и что наречем мы ее именем моей матери — Атимус!
— Щебет зеленокрылых гурианов, что будит нас по утрам, кажется мне лепетом Атимус, в журчании холодного ключа мне слышится ее смех, в едва различимых шагах горной серны мне чудится ее походка, свадебный концерт пышногрудого аззакалия напоминает мне ее песнопение!… Вот и сейчас воет ветер, а я готова поклясться, что плачет наша маленькая Атимус!…
— Это прекрасно, подруга моя! — воскликнул Ирасек. — Голос матери говорит в тебе, самый нежный и чистый из всех голосов, звучавших когда-либо на этой земле!