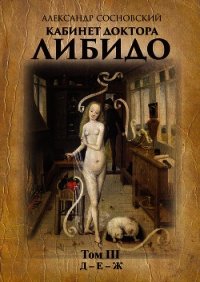Восковые фигуры - Сосновский Геннадий Георгиевич (версия книг .TXT) 📗
Уилла любила смотреть на сына, когда он спал, находясь во власти сытой и приятной расслабленности и только тихонько сопел, как бы заявляя миру о своем существовании, и этим вызывал в ней новые приливы исступленной нежности. Странно, что именно в эти минуты лицо его становилось более взрослым, в нем отчетливей проступали черты, которые она узнавала без труда, — то были черты Герта и ее самой, вдруг появлялось, то одно, то другое, она, смеясь, склонялась над младенцем, чувствуя, как тяжела ее грудь, как она упруга, как она тянется к маленьким раскрытым устам, полная нетерпенья скорее отдать излишки. Они были как два сообщающихся сосуда, он продолжал ее и заполнял ее в эти дни одиночества и горького счастья. Уилла была похожа на мадонну — ненаписанный портрет в галерее прекрасных женских образов, лицо ее стало прозрачным, глубокие скорбные морщинки прорезались около плотно сжатых губ. Что-то бродило в ней все сильнее и сильнее, вызывая приступы раздражительности и беспричинных слез. Никто не видел происходившего с ней, все это было спрятано глубоко внутри, но каждый раз вслед за кормлением ребенка, когда они сливались воедино, неутоленное желание молодой женщины терзало ее, разрывало на части, грызло, как проникшее внутрь чудовище, на борьбу с ним уходили все силы, и когда она лежала ночью без сна во власти навязчивых образов, разжигаемых воображением, ее охватывало отчаяние и хотелось умереть — не потому, что она считала свою страсть греховной, а потому, что она казалась ей неуместной. Именно сейчас.
Однажды, приняв ванну, Уилла долго, не одеваясь, стояла нагая перед зеркалом, созерцала себя критическим оком. Но нет, материнство не только не обезобразило ее тела, а наоборот, сделало его как бы одухотворенным, оно все трепетало от внутренней музыки, понятной для тех, кто любит и умеет слышать. Здесь же не было никого, ни подруг, ни друзей, кто мог бы подняться на один с ней уровень, зеркало бесстрастно отражало женщину, которую многие сочли бы совершенством, но сейчас это не доставило ей радости. Первый раз, может быть, за все время она не сосредоточилась заботливой мыслью на своем ненаглядном чаде — он спал в это время, и не было особой нужды волноваться и думать о нем, — а продолжала думать о себе, о том, как неукротима ее женская натура. Только что родила ребенка, и вот снова душа и тело запутались в тенетах неумолимой природы. Даже легкое прикосновение к себе, когда рука привычно скользнула вниз к животу, заставило сердце вздрогнуть, и кровь прилила к щекам. Глаза Пискунова, смотревшие на нее откуда-то из глубины, были полны нежности, которая о любви говорит больше, чем страсть. Уилла рассмеялась, вспомнив, как обещала слиться с ним в любовном экстазе — даже если это будет последний миг ее жизни. Случится ли это когда-нибудь?
Теперь ей казалось даже странным до нелепости, что еще несколько минут назад она была в состоянии, пусть на короткое время, сосредоточиться на самой себе, оказаться во власти постыдных, эгоистических мыслей — будто злая ворожея заворожила ее, — и теперь она вернулась из короткого сна, мучаясь угрызениями совести и заражаясь все большей и большей тревогой, почти ненавидя себя. Оставаться одной стало мучительно. Уилла быстро оделась и, зябко запахивая на груди халат, вошла в палату. И тут ей сообщили, что ее давно ожидают двое, мужчина и женщина, находящиеся в приемном покое, — здесь в небольшом вестибюле принимались передачи для рожениц, а сестры сообщали посетителям все интересующие их сведения.
Когда она вошла и остановилась в дверях, вопросительно оглядывая всех по очереди, те двое встали и молча подошли. Это был Леня Захаркин и Маша. Захаркин созерцал ее, чуть отступив на шаг, как бы ослепленный, но без всякой бравады, без желания напомнить о знакомстве, смотрел грустно и серьезно; Маша улыбнулась извиняющейся улыбкой, отвела в сторону, прошептала сбивчиво, что-то доставая при этом из сумки:
— Простите нас, мы решили, что должны… Они бежали оттуда, с Зеленого острова… Случайно заметили, подумали сначала: мышиный писк… Очень просили… передать. Один был еще жив…
— Минигопсы? — Уилла отшатнулась, не скрывая брезгливости. Будто горячий ком ненависти подкатил к горлу, перехватило дыхание. Эти крошечные твари… Они сделали ее несчастной, лишили всего. Чего еще хотят от нее? Уилла с трудом овладела собой, отвела взгляд от трех маленьких мертвецов, завернутых в чистый носовой платок, кое-где окрашенный кровью. Ничтожные создания! Да будьте вы все прокляты!
Они не вызывали в ней даже сострадания, хотя разве они виноваты? Значит, так окаменело ее сердце!
Это были два минигопса мужского пола и один женского. Пискунов признал бы в нем злополучную тетю Муру, здесь же узнать ее было некому. На крошечных восковых личиках сохранились следы царапин и ушибов — должно быть, их сбили на дороге в темноте, а потом кто-то сбросил в канаву.
— Зачем вы их принесли? — пробормотала Уилла, чувствуя головокружение и тошноту. — Чтобы лишний раз напомнить мне…
— Я думала, вы не поверите, извините нас… — торопясь, объясняла Маша смущенно, почему-то робея перед Уиллой. — Им очень трудно пришлось, но, видно, хотели обязательно добраться до вас, предупредить… Один был еще жив, назвал ваше имя, попросил передать… Сначала мы подумали, мертвые, их сейчас везде находят. Вот! — И Маша достала записку.
На крошечном клочке бумаги величиной в спичечную этикетку можно было с трудом разобрать коряво написанное: «Бойтесь! Хотят вам отомстить, убить…» Дальше еще что-то неразборчиво.
С тупым напряженным вниманием смотрела Уилла в записку, думая не столько о содержании самой записки, сколько и о чем-то другом, что еще не было до конца осознано, но уже грозно сверкнуло в клубах спутанной мысли и неотвратимо подталкивало к единственному выводу. Маленькие беспомощные существа, минигопсы, предупреждают ее о какой-то опасности, заплатив жизнью за свой отчаянный поступок! Разве это не подвиг, не благородный порыв? Можно ли это назвать иначе? Уилла продолжала вытягивать из сознания нить за нитью, в то время как Захаркин рассказывал:
— Дамочку-то я где-то раньше встречал, остальных не знаю. Не меньше суток, поди, пробирались. Шутка ли, им все равно что нам до столицы пешком… Да и удрать нелегко, ведь они теперь под охраной. Выход только по пропускам под ответственность родственников. Но все равно бегут. Говорят, одного охранника арестовали, взятки брал. Их теперь растаскивают в корыстных целях…
— Как — растаскивают? — спросила Уилла машинально, думая о своем.
— Так ведь они в любую щель… В квартиры, в магазины. Несколько штук за рубеж, говорят, толкнули… А эти бедолаги… Не повезло. Пропали ребята.
А мысль все блуждала в сознании, постепенно оформляясь: а ведь Герт утверждал, что минигоп-сы, все без исключения, — моральные уроды, подонки, порождение дьявольщины. И выходит, своей гибелью эти трое все опровергли, и весь этот чудовищный эксперимент… и столько человеческих жертв — все напрасно?
Сунув записку в карман халата, Уилла перевела взгляд на платок, и Маша, по-своему это истолковав, поспешила заверить:
— Не беспокойтесь, мы их похороним. Какие ни на есть, а все же люди, хоть и крохотульки… Жалко мне их, ей-богу!
— Хорошо, — согласилась Уилла. — Но право же… и без этой записки я все время чего-то боюсь, не знаю чего… — Побледневшая, почти без чувств, она прислонилась к стене, но все еще крепилась, сказала с горькой усмешкой: — Кажется, уже все потеряла, чего же еще?
— Все ж таки поостерегитесь! — настаивал Захаркин. — Хоть, может, оно и болтовня, обойдется. — Он взял из ее холодных, бесчувственных рук записку, которую она вынула и опять стала машинально перечитывать, качая головой, и записал на ней номер телефона. — А если помощь какая нужна… Мы сейчас в другом месте живем. Чтобы без всякого стеснения.
— Спасибо! — сказала Уилла и, цепляясь за стену, стала сползать вниз, в обморок. Маша испуганно склонилась над ней.
— Что с вами? Вам плохо? Женщине плохо! Дайте воды! Сестра!