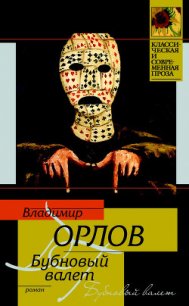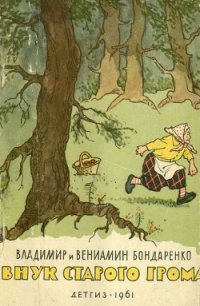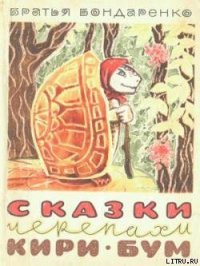Аптекарь - Орлов Владимир Викторович (библиотека электронных книг .TXT) 📗
Публика расходилась с неохотой. Глаза у многих еще горели жаждой действия. Но, возбудив энергию и воодушевление, факел не зажгли и никого никуда не позвали. Одно успокаивало: еще позовут, и тогда пойдем.
Валентин Федорович Зотов удалялся домой (или продолжать службу? тогда не знали) понурый и безмолвный. Подтяжка его была укрощена и прищеплена к брюкам. Анна Трофимовна деликатно молчала и опекала безмолвную же собаку. За дядей Валей шел Бурлакин в черной задумчивости.
–?Женщина-то какая ядовитая! – услышал я от соседа, ожидавшего услугу с оксфордской мантией.
–?Что? – рассеянно спросил я. – Какая женщина? Отчего ядовитая?
–?Ядовитая! – сладко, закрыв глаза, произнес мимолетный сосед, и стало ясно, что «ядовитая» для него высшая степень одобрения женщины. Эх, кабы ему в жизни выпали оксфордская мантия с шапочкой и париком и ядовитая женщина!
–?Вы из хлопобудов? – спросил я.
–?Нет, – посмотрел на меня сосед с удивлением. – Нет. Не допущен. – Но сразу же добавил, словно стараясь сделать мне приятное: – Здесь есть хлопобуды. Есть. И немало. Тот, что стоит за мантией, например. Я думал, его время подошло. Ан нет… Но получит.
Дом мой был рядом, и отложенная тетрадь ждала на столе, но я все бродил возле бывшего пункта проката. Воодушевление сменилось во мне подавленностью. Из иных же воодушевление пока не истекло. Педанта, выразившего сомнение, не уместнее ли было бы оснастить экспедицию не колесным пароходом, а стругами и челнами, тут же пристыдили. Палата Останкинских Польз знает свои резоны, и критики ей не нужны. Слова эти вызвали одобрительный гул. Возвращались иноземные автомобили и забирали любопытствующих гостей Москвы, видно, что озадаченных.
–?Ядовитая женщина! – опять очутился возле меня мечтатель.
Я хотел было согласиться с ним, чтобы он отстал, но увидел Мардария. Мардарий сидел на крыше, свесив ноги в лунных сапогах, смотрел на суету людей и машин, был одинок и надменен.
–?Да, ядовитая! – уже обижаясь на меня, заявил мечтатель. – Не я один ее возжелал. Но кто я? Она досталась по праву…
–?По праву! – прервал я его и пошагал прочь.
46
Дня три у меня болела голова и было скверное настроение. Я будто угорел и никак не мог вывести из себя вред угара. Но от Шубникова, от его власти и силы я отдалялся. Явись он теперь ко мне с факелом и потребуй идти за ним осуществлять общее благо, я бы не пошел. Увольте, сказал бы я, от своих прихотей и видов. Я сказал бы это и Любови Николаевне. Но ни она, ни Шубников ко мне не приходили.
Отчего в Останкино съехалась, слетелась, сбилась публика? Что ее привлекло? Что заманило? Слух ли искаженный, но загадочный? Или, напротив, с подробными разъяснениями приглашение? Впрочем, что и как привлекло, было не самым существенным. А предъявили публике вот что: Шубников с Любовью Николаевной заодно, более того – она увлеклась Шубниковым, а что могут сотворить дама с фаворитом, известно всем. Далее: Шубников показал, что способен не только усмирить бунтаря Валентина Федоровича Зотова, он, наверное, уже и сейчас мог бы вызвать у тысяч людей состояние восторга и отваги, при которых впору было бы штурмовать Бастилии или же ломами сравнивать с землей Кордильеры. Полагаю, штурмы и сравнивания с землей еще предстояли.
Предъявлено так предъявлено, решил я. Но это их дело.
Приходили на ум реплики, услышанные в толпе и тотчас забытые, о тысячных – да что там тысячных! – уплатах за услуги и о том, что все дело в один миг возьмет и порушит фининспектор. Тогда казалось: это судачат завистники и очернители; теперь же думалось: даже если и не завистники, какая разница? Сможет ли что-либо порушить на улице Цандера и самый добродетельный фининспектор? Вспоминался и надменный Мардарий, сидевший на крыше… Однако мысли эти были как бы остатками угара. Они утекали. Потом голова перестала болеть.
А о Михаиле Никифоровиче я думал. И отчего-то с жалостью… Естественно, что эта моя жалость вряд ли могла быть существенна для художественного руководителя Палаты Польз. Но при отличиях наших размышлений и чувств объект их временами был один – Михаил Никифорович. Присутствие Михаила Никифоровича рядом на земле сейчас тяготило Шубникова. Он хотел бы не оглядываться на Михаила Никифоровича, совсем не знать, что такой есть, но не мог. В нем вдруг возникло: «Аптекаря не должно быть!» Но каким образом не должно быть? Отправить его с походной аптечкой долой с глаз, долой из памяти, своей и чужой, куда-нибудь к морю Росса на антарктические станции или к зулусам, которые, как известно, с копьями ходят и на профсоюзные собрания? Или извести вовсе? Но кому отправить и извести? Не ему же, Шубникову. Это вышло бы недостойно его нравственного движения. И просить кого-то о пособничестве было бы унизительно. И подло. Вот если бы все случилось само собой и кто-то сам бы понял его, Шубникова, и легонько так, будто забывшись, сдунул бы Михаила Никифоровича с земли. Вот если бы эдак…
Это были мысли тайные, упрятанные в подземелье, прикованные там к чугунным столбам и будто бы даже удавленные кованой цепочкой, но они выживали и, как тараканы по ходам вентиляции, приползали к Шубникову. «Это низко! Это ниже тебя, какой ты теперь есть», – слышал Шубников, но ничего не отвечал укорам и усовествлениям. Он знал: через многое ему предстояло перешагнуть и, может быть, начинать следовало именно с Михаила Никифоровича… Однако Михаил Никифорович оставался при двух рублях с мелочью, и Любовь Николаевна могла иметь сентиментальные причуды. Фелица, владычица киргиз-кайсацкия орды, предположим, старалась не причинять неудобств и неприятностей отставленным кавалерам, напротив, она помнила о прежних удовольствиях без зла. Шубников ни разу не заговорил с Любовью Николаевной о Михаиле Никифоровиче. Но, не вытерпев, он пожелал, чтобы она открыла его, Шубникова, подземельные помышления, не названные словами и самому себе. Она открыла и назвала, и Шубникову стало болезненно сладостно.
Тогда-то Шубников чуть ли не успокоился и посчитал: да и не стоит связываться с такой убогой личностью, как неудачливый останкинский аптекарь! Пусть видит все, тогда и без специальных усилий он будет унижен, разбит и уничтожен. Ему же, Шубникову, и узнавать о крахах всяких дальних и ближних тварей необязательно. Что ему теперь Михаил Никифорович Стрельцов! Что ему все остальные останкинские никчемности! Ничто!
Теплое, непередаваемое, упоительное возникало в Шубникове, когда он вспоминал о проявленной им силе. Конечно, логично допустить, что ему в помощь был дан заряд, посыл энергии, но ведь выбрали для действия единственно его, и выбрали, стало быть, поверив в него, избрав его, признав его достойным чрезвычайного промысла. Но логично допустить и другое: ему ничего не объявляли, значит, и никто никого не избирал, а ему, Шубникову, судьбою, развитием мироздания была предопределена миссия, какую пришла пора исполнить. Сила явилась не на время, чтобы избавить его от конфуза в споре с подсобным рабочим Зотовым, она не исчезла, Шубников проверял ее и играл ею, но пустячно, между прочим, и сегодня, и вчера, и позавчера. И он уверил себя в том, что сила и прежде существовала в нем, возможно, он одарен ею изначально, он предчувствовал, что она когда-нибудь пробудится, как пробудилась мощь мускулов в детине из Карачарова и заставила его отправиться на тяжелом коне в Киев, в рать Владимира Святославича. И свет в нем – собственный, и огнь в нем – собственный. И, видно, прежде он проявлял нечаянно силу, возможно, и Мардария ставила на ноги эта дремлющая в нем сила. И без Любови Николаевны могли приходить удачи в делах на улице Цандера, они – от неких протуберанцев его, Шубникова, дара, которому уже становилось тесно в гнетах определенного сроком покоя (Шубников представил, как рассмеялся бы при этом его построении естественник Бурлакин, ну и дурак; этот Бурлакин начинал надоедать, но еще мог понадобиться). «Нет. Свет во мне – собственный, – повторил про себя Шубников. – И огнь во мне – собственный!»