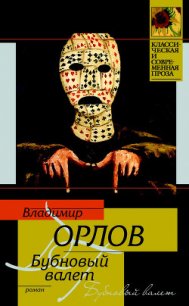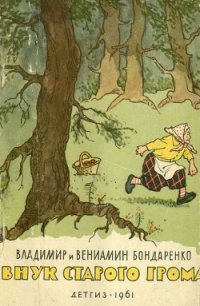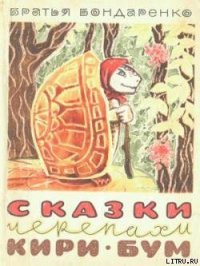Аптекарь - Орлов Владимир Викторович (библиотека электронных книг .TXT) 📗
47
Но ненадолго отставить, ненадолго!
В услугах Палаты Останкинских Польз обнаруживались, к сожалению, и дефекты. Претензии на них были вежливые. И заказчики понимали, с кем они имеют дело, и дефекты случались пустячные. Однако Бурлакин углядел в дефектах этих, даже в странных непредвиденностях их, систему или логику.
–?Аптека! – в возбуждении сказал он Шубникову. – Лекарства!
Шубников сидел в узбекском халате, пошитом в Японии, был сыт и спокоен. Кабинет его преобразили мраморные колонны, приставленные к стенам, бронзовые амуры и колчаны со стрелами между колоннами, а на мраморных же подставках – хрустальные жирандоли и канделябры. Вчера обстановку в кабинете не спросясь изменил воодушевленный Голушкин. Шубников хотел было отругать его и пристыдить, но смилостивился, оставил приобретения на день, на два на месте, чтобы испытать себя в свежем интерьере. «Какие лекарства?» – лениво спросил Шубников.
Бурлакин разложил перед ним таблицы с цифрами, арабскими буквами и объяснил какие. Ключ к заключению Бурлакина дала сегодняшняя претензия старухи Пульчинелловой. Та три дня назад получила двуствольный аппарат для одновременного извлечения из канцелярского клея араки и косметической туши. И третий день из обеих трубок у нее обильно тек лечебный раствор йода. Происходили и раньше всякие глупости. Скажем, в упаковках с теми или иными машинами либо ценностями обнаруживались совершенно ненужные заказчикам склянки или порошки – касторовое масло, например, или английская соль. Но теперь, после йода старухи Пульчинелловой, а в ее производстве не нашли технологических погрешностей, Бурлакина осенило, и все выстроилось. Выходило, что и прежде в нелепых трансформациях услуги срабатывал механизм, который мог бы иметь место при применении или при создании каких-нибудь лекарств. «Не совсем прямо, а по аналогии, по структуре или, напротив, по контрасту», – объяснил Бурлакин. Шубников не понимал техническую дребедень Бурлакина, но догадывался. «Пока это все мелочи, чепуха, – сказал Бурлакин. – Но такие номера можно будет ожидать и в важных делах. Они станут неуправляемыми. Аптека противится. Это предупреждение надо обдумать…» «Не аптека! – вскричал Шубников, вызвав нервный звон ампирного хрусталя. – Аптекарь! Этот подлец Михаил Никифорович! Здесь стены пропитались аптекарем. Теперь же посмели мешать людскому благу! Надо объявить аптекарю, чтобы он прекратил мешать! Объяви ему! Я же ни встречаться, ни разговаривать с ним более не буду, и ты знаешь, какие для этого у меня основания».
Бурлакин в тот же день нашел Михаила Никифоровича, был серьезен, не ерничал и не гоготал (впрочем, уже давно не слышали его гогота), вопросы задавал ученые и как бы теоретические.
–?Нет, – сердито сказал Михаил Никифорович. – Это не ко мне.
–?Но, может быть, ты бессознательно, – осторожно высказал Бурлакин, – посылаешь импульсы, от несогласия, или от обиды, или из-за…
–?Мелкого пакостника, что ли, ты во мне предполагаешь? – спросил Михаил Никифорович.
–?Нет, не предполагаю, – быстро ответил Бурлакин.
–?Я отношусь к вам без симпатий, – сказал Михаил Никифорович. – Но эти ваши заботы – не по адресу.
–?Была просьба передать тебе, – вынуждая себя, произнес Бурлакин. – Хотелось, чтобы ты не мешал…
Шубников был недоволен Бурлакиным, кричал:
–?И ты поверил ему на слово?!
–?Да, я поверил его слову, – угрюмо сказал Бурлакин.
Шубников взглянул на него резко, удивленно, кивнул:
–?Хорошо, поверим слову. Но необходимо, и немедленно, устроить противодействие стенам, пропитанным флюидами медикаментов и аптекаря. Перебираться отсюда на иное место было бы позорно.
Отправились к Михаилу Никифоровичу и другие представители с полномочиями по-приятельски потребовать от него: не дурить, иначе найдется управа. В их числе Игорь Борисович Каштанов и Валентин Федорович Зотов. Как стало известно в автомате, Михаил Никифорович ответил им неучтиво. А ко мне, совершенно для меня неожиданно, обратился сам художественный руководитель. Он возник передо мной в сумерках Останкина, и я под фонарем у магазина бытовой химии на Звездном бульваре разглядел, что на нем долгополый плащ из коричневого бархата с золотыми грифами-застежками и из бархата шапочка с грифом же. «Возрождение… шестнадцатый век», – пробормотал я и этим как будто бы смутил Шубникова. То ли иронию он уловил в моей нечаянной оценке, то ли не был уверен в своем костюме – словом, смутился, и разговор о Михаиле Никифоровиче был смят. Да я и дерзить стал Шубникову. «Хорошо. До свиданья, – сдержанно сказал Шубников. – Но прошу обратить внимание: лишних слов я не произнес». И прежде чем повернуться и уйти, он взглянул на меня, грифы на плаще и на шапочке вспыхнули, взгляд же Шубникова словно бы все опалил у меня внутри, он был великий и правильный человек, хозяин дум и душ, истинно знавший, что надо людям, а я, недостойный, ничтожество, в следы его ступать не имевший права, еще и дерзил ему, казнить следовало меня, колесовать или жечь на костре, но до этого я обязан был нестись к Михаилу Никифоровичу, вразумить, а то и прибить негодяя. Тут меня что-то ударило в плечо, я отлетел, услышал и родимые слова, двое грузчиков, волочивших диван по Звездному, посетовали вслух на то, что нельзя огреть мебелью олухов, не желающих посторониться. «Спасибо!» – крикнул я им, выбившим из меня дурь. Огня уже не было во мне. Но все слова Шубникова я запомнил.
Шубников нервничал. Его раздражало то, что он не может освободиться от мыслей о Михаиле Никифоровиче. И приходило ему в голову: а не шутит ли с медикаментами Любовь Николаевна? «Нет, нет, – тут же он говорил себе. – Зачем это ей?»
Но нередко Шубников о Михаиле Никифоровиче и забывал. В особенности когда его захватывали замыслы и идеи Палаты Останкинских Польз, когда требовались моментальные постановочные или сюжетные решения. Тут Шубников был как Петр Великий на верфях Адмиралтейства. Или хотя бы как Бондарчук в Прикарпатье в окружении войск округа на баталии Ватерлоо (в минуты благодушия Шубников позволял развлекать себя кинематографическими историями ставшего ручным дяди Вали). В последние дни Шубников увлекся идеей массового гулянья на улице Королева с фейерверками, балаганами, каруселями и триумфальными арками, благо нашлись заказчики. Со вниманием относился Шубников и к урокам Высшего Света с погружением. Узбекский халат и бархатный костюм с плащом и шапочкой Шубников отверг. Голушкин их не сжег и не перепродал, а отправил в депозитарий имени Третьяковской галереи. Шубников носил теперь на службе сапоги, мушкетерские штаны, бязевую рубашку со свободными рукавами, завел трубку. С трубкой во рту он стоял над картой Останкина, где должно было развернуться массовое гулянье с потехами и когда возникло в его кабинете слово «пандейра».
Долго это слово, а тем более клиента, его произнесшего, хотя он и был человеком заслуженным, заведовал в пригороде свалкой, не пускали в кабинет Шубникова. Стыдно было не уважать заказ такого человека, тем более что он просил во временное пользование лишь одну пандейру, пусть и небольшую. «Все у меня есть, – говорил он, – но нет пандейры». Его успокаивали, заверяли, что, конечно, непременно, сейчас же и необязательно небольшую. Но никто не помнил, кто такие пандейры. Наконец один из наиболее бесстыжих спросил, а что это такое – пандейро. «Вот тебе раз! – удивился клиент. – Если бы я знал, она бы у меня была». Похоже, он стал разочаровываться в Палате Останкинских Польз. Призвали Ладошина, интенданта и любимца директора Голушкина. Ладошин, не отказавшись от слова «минусово», начал с толком пользоваться словом «ксерить». Однажды он похвастался: «Брат-то у меня отксерил дисер». И смутился, ожидая, что местные лингвисты его пристыдят. Но Ладошина поздравили. С той минуты Ладошину стало легче общаться. То и дело слышалось: «ксерить», «отксерить», «ксерик». «Жена ксерила мне пять котлет. Не минусово» – похвала жене. «Я вчера неминусово отксерил двух…» – похвала себе. И так далее. (А в журнале деловых идей Шубников сделал запись: «Ксерить. Ксерики. Отдел (?) ксериков. Вещи одноразового использования. Люди одноразового использования». Однако идея с ксериками пока не была осуществлена.) Призванный Ладошин развел руками. Тогда во избежание потери лица или даже позора слово «пандейро» и было допущено в кабинет художественного руководителя.