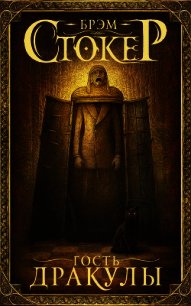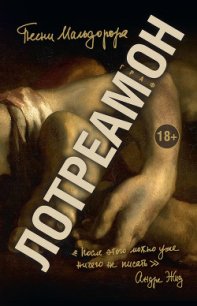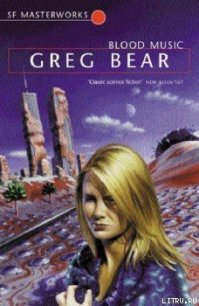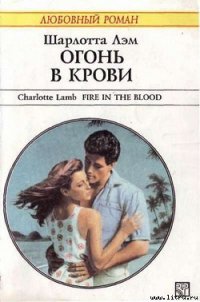Бокал крови и другие невероятные истории о вампирах - Дюкасс Изидор-Люсьен "Лотреамон"
У нас были кучер и лакей на запятках, оба далеко не молодые, скорее, два этаких старых умника. Доехав до Пинеты ди Классе, мы остановились, чтобы посетить одну церковь, знаменитую своими мозаиками, как обычно, созданными еще во времена Византии. Ворота в западном конце стояли открытыми, поскольку светило довольно жаркое солнце, и внутри и впрямь все выглядело очень красиво — сплошь светлая лазурь, цвет небес, и сверкающее золото — но больше я ничего не увидела, ибо только собралась переступить порог, как на меня вновь накатила дурнота. Пришлось сесть на скамью и сказать папе с мамой, чтобы шли внутрь без меня. Будучи разумными англичанами, они так и поступили, вместо того, чтобы квохтать надо мной, словно глупые итальянцы.
Скамья была из мрамора, с подлокотниками в виде львов, и хотя камень от времени потемнел и был усеян выбоинками, а края откололись, эта массивная скамья, если не ошибаюсь, высеченная еще римлянами, все равно поражала своим великолепием. Вскоре я почувствовала себя лучше, но тут заметила, как два толстых старика, наши слуги, что-то делают с окнами и дверцами экипажа. Вероятно, смазывают, предположила я. Что ж, давно пора, да и покрасить бы не помешало. Но, когда папа с мамой вышли наконец из церкви и мы расселись по своим местам, мама начала жаловаться на запах, который, по ее словам, был запахом чеснока или, по крайней мере, очень его напоминал. Конечно, за границей чесночный запах преследует почти повсеместно, поэтому я вполне понимаю, отчего папа велел ей не выдумывать. Однако затем я и сама стала все больше и больше его ощущать, так что остаток путешествия мы провели чуть ли не в полном молчании и все, за исключением папы, почти не притрагивались к очень грубой еде, подаваемой на пути в Чезанатико.
— Что-то ты совсем бледная, — сказал мне папа, когда мы вышли из экипажа и, уже обращаясь к маме, но едва ли таясь от меня, добавил: — Теперь я понимаю, почему контесса так с тобой говорила.
Мама лишь пожала плечами. Раньше она и не подумала бы так себя вести, но теперь это вошло у нее в привычку. Я едва удержалась от колкости. В конце концов, контесса, если вообще давала себе труд появиться, всякий раз неодобрительно отзывалась о моей наружности. Бесспорно, я бледная, даже бледнее, чем обыкновенно, хотя никогда не отличалась румянцем, а теперь вообще похожу на маленькое привидение. Однако причину такой перемены во мне знаю только я, и никто более, потому что я никогда ее не открою. Не такой уж это секрет. Скорее, откровение.
В Римини нам не осталось ничего иного, как остановиться в гостинице, и мы, можно сказать, здесь единственные постояльцы. Оно и не удивительно: эта гостиница — мрачное, негостеприимное место; у padrona [23] то, что у себя в Дербишире мы называем «заячьей губой», да и обслуживание из рук вон плохое. Право, за все это время ко мне никто так и не отважился подойти. Все комнаты, включая мою, очень большие, и все соединяются между собой, как было принято лет двести назад. Строение напоминает палаццо, у хозяев которого настали тяжелые времена, и, возможно, так оно и есть. Вначале я боялась, что папу с мамой поселят в комнатах, смежных с моими, чего бы мне вовсе не хотелось, но по некой причине этого не произошло, так что между моим обиталищем и лестницей еще два темных пустых покоя. Раньше меня бы это тревожило, а теперь я рада. Все здесь очень бедное и заросло пылью. Неужели за границей мне так и не удастся отойти ко сну с той легкостью и bien-être [24], которые в Дербишире воспринимаешь как должное? О, да… по спине бежит холодок, когда я пишу эти слова, но, скорее, это холодок предвкушения, нежели страха. Уже скоро я окажусь в совершенно ином месте и буду выше подобных банальностей.
Я открыла большое окно… грязная и, боюсь, шумная работа. Затем в сиянии луны перепорхнула на каменный балкон и посмотрела вниз, на piazza. Теперь Римини представляется мне очень бедным городом — ни следа той шумной и буйной ночной жизни, что кажется неотъемлемой чертой итальянского быта. В этот час все вокруг молчит… странная, полная тишина. До сих пор жарко, но к луне поднимается туман.
Я забралась в очередную из огромных итальянских постелей. Он спускается ко мне на крыльях. Нужда в словах отпала. Не остается ничего иного, кроме как погрузиться в сон, и это будет просто, ибо я так измотана.
12, 13, 14 октября.
Не о чем писать, кроме него, а о нем писать нечего.
Я очень устала, но это та усталость, что следует за воспарением души, а не вульгарная усталость обычной жизни. Сегодня я заметила, что лишилась тени и отражения в зеркале. На счастье, от путешествия из Равенны мама совсем расклеилась, как выразились бы ирландские простофили, и с тех пор, как мы сюда приехали, я еще ни разу ее не видела. До чего же много, много часов проводят старшие в уединении! До чего я рада, что никогда не испытаю на себе тяжесть подобных оков!
До чего ликую, думая о той новой жизни, что простирается предо мной в бесконечность, о том новом океане, что уже плещет у моих ног, о новом корабле с пурпурным парусом и красными веслами, на борт которого я могу взойти в любую минуту! Когда стоишь пред лицом столь великого преображения, слова кажутся такими глупыми, но привычка к ним дает о себе знать, пусть даже сил удерживать перо почти не осталось. Скоро, скоро новая сила станет моей, пламень, что невозможно постичь разумом, и способность по своему желанию принимать любые обличья или летать без оных во тьме. Вот что творит любовь! Сколь избрана я средь всех женщин, а ведь я просто обычная англичанка! Это чудо, и я войду в залы Иных с гордостью.
Папа в своем беспокойстве позабыл обо всем, кроме мамы, и не замечает, что я ничего не ем и пью только воду; что за нашими кошмарными, ненавистными трапезами я чуть ли не падаю в обморок.
Хотите верьте, хотите нет, но вчера мы с папой посещали Темпио Малатестиано. Папа отправился туда как добропорядочный английский путешественник, а я, по крайней мере на его фоне, выглядела как пифия. Это великолепное строение, одно из самых прекрасных в мире, как говорят. Но для меня особое очарование ему придают благородные и любимые мертвые, нашедшие в нем вечное упокоение, и та все большая власть над ними, которую я в себе ощущаю. Новая сила настолько меня измучила, что на обратном пути в гостиницу папе пришлось поддерживать меня под руку. Бедный папа, верно, спрашивает себя, и за что ему только такая обуза — сразу две немощные калеки! Мне почти жаль его.
Вот бы дотянуться до хорошенькой контессины и поцеловать ее в горло.
15 октября.
Прошлой ночью я открыла окно в своей комнате — второе окно мне, слабой по меркам этого мира, не поддается — и, не осмеливаясь выйти, обнаженная, стояла в проеме, воздев руки. Вскоре оттуда, где еще мгновение назад все было тихим, как смерть, послышался шепот ветра. Затем этот шепот стал ревом, а слабая ночная прохлада превратилась в жару — как будто кто-то отворил дверцу духовки. Грянули плач великий, крики, стоны, гул и скрежет — будто невидимые (или почти невидимые) тела кружили снаружи, беспрестанно стеная и жалуясь. Моя голова раскалывалась от этих жалобных звуков, а тело взмокло, словно я была какая-то турчанка. А после, в одно мгновение, все прошло. В тусклом оконном проеме передо мною стоял он.
— Это — Любовь, какой ее знают избранные этого мира, — были его слова.
— Избранные? — с жаром прошептала я.
Голос звучал до того слабо, что вряд ли вообще мог называться голосом. Но разве это важно?
— Да. Избранные, из этого мира.
16 октября.
Погода в Италии переменчива. Сегодня опять холодно и сыро.
Меня начали считать больной. Мама снова на какое-то время встала на ноги и суетится вокруг меня, будто мясная муха над умирающим ягненком. Родители даже позвали medico, после того как в моем присутствии долго спорили, способен ли местный врач принести хоть какую-то пользу. Вмешавшись, я своим нынешним слабым голосом решительно заявила, что нет. Но все равно это нелепое создание явилось… в старомодном черном костюме и, хотите верьте, хотите нет, в седом парике — подлинный Панталоне, да и только. Что за фарс! Я быстро от него избавилась, пустив в ход свои острющие клыки, и он убежал с воплями, как в той старой комедии, из которой его вытащили. А я сплюнула его сок, отдающий старческой немощью, стерла с губ остатки его кожи и запаха и, обнимая себя, вернулась на свое ложе.