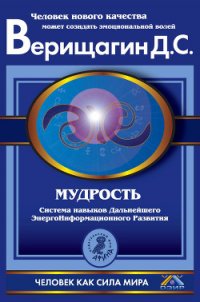Равноденствия. Новая мистическая волна - Силкан Дмитрий (читать полные книги онлайн бесплатно .txt) 📗
…Ефим стал задумываться о том же, о чём она, с кем коротать Вечность. Он не хотел быть один, как здесь. Правда, здесь он жил не совсем один, а с чужой женщиной, которую звали Люба. Давно, когда Ефим открыл ей тайну Птаха и хотел научить, как нужно собирать сокровища на небесах, она испугалась.
— Ты — сектант?
Люба отговаривала его:
— Они все мошенники и зарабатывают на верующих деньги.
Он уверял, что никто у него не просил денег.
— Но ведь ты шлёшь посылки?
— Это не людям, это Богу.
Для Любиного спокойствия он срочно написал завещание. Но всё равно, когда у неё пропала золотая цепочка, она испугалась, что Ефим отнёс её в секту. И даже когда у неё терялась книга или перчатки, она подозревала его. Ведь нельзя доверять сектанту. А Ефиму совсем не нужны были её вещи в его Раю, он ни в одном из писем даже не упомянул её имя.
…Иногда Люба надевала парик, и у неё образовывалась чудесная каштановая головка. Вечерами, в электронном полумраке, она демонстрировала парик, сидя перед телевизором в кресле. Ефим располагался в отдалении, на диване, и воображал, что это не Люба сидит в кресле, а Таинственная незнакомка…
Целую жизнь он приучал себя вглядываться в мир, поверять его чувствами. Он пристально рассматривал все черты, звуки, грани и изгибы. И развил в себе восприимчивость к красоте. Его чаровало злосчастное напыление на поверхности предметов, беззастенчиво выразительное, доверчиво сияющее, неосмысленное, иногда ядовитое. Его глазам доставляли ощутимое удовольствие румяные и блестящие бублики, чисто вымытые окна, совершенные формы и оперения голубей на балконных перилах. Некрасивое отвращало его, безобразное мучило. Глаза вяли, не находя себе пищи. И было ещё заветное желание прикасаться к красоте, заключать в ладони её сверхъестественные поверхности.
Однажды в процедурной Тома была особенной. В тот день она придумала посылать в Рай целиком журналы «Бурда», обводя красным карандашом самые вожделенные предметы.
Ефим задумался…
— Давай я лучше пошлю твою фотокарточку, — наконец выдавил он. — Ты сможешь жить в одном из городов моего Рая. Я придумал для тебя дом… Самый лучший из всех домов — и на земле, и Там.
— Голубчик, а меня ты спросил, можно ли посылать мою фотокарточку? — Её голос потерял всю свою праздничность и обнажился.
— Ты можешь иногда, когда захочешь, появляться в моём мире, странствуя по другим мечтам, из Рая в Рай. Там времени достаточно. Тебе понравится…
— Нет, не надо, — покачала она головой.
— Но почему? Неужели тебе не интересно?
Он растянул губы в жалкую улыбку.
— Не надо!
Тома стала сторониться его. Она про себя опасалась, что кривобокий Ефим какой-нибудь ворожбой всё же затянет её в свой Рай — ведь он лучше её знает тамошний распорядок. Теперь, когда он приходил, другая сестра принимала его и производила необходимые манипуляции с лампой, пелёнкой и часами. Тома пряталась за занавесками и только изредка проскальзывала мимо.
Её обличье продолжало раздирать и уничтожать Ефима. Красота — только поверхность, оболочка тоньше яблочной шкурки, потому что одна видимость без вещества. Но в неосязаемости этой заключена горняя сила, никак не соответствующая плоти, которую она глянцует. Плоти, всё равно живущей по своим плотным законам в темноте тела. Горняя сила её такова, что Ефим чувствовал себя стёртым с лица земли видом вальяжной Томы.
Он полагал, что носящая на себе глянец красоты должна знать, что носит — не своё, носит — дарёное. Но Тома не знает и не думает, как возвращать. Она злоупотребляет и поражает других, обездоленных, самых внемлющих и открытых, самых беззащитных перед горним сиянием, чья участь — неучастие. А она причастна тому, участие в чём и есть счастье.
Ефим любил красоту, как лик Абсолюта, нарисованный на случайном теле. Как знак его бытия во Вселенной и даже присутствия в переулках, где бродил. В переулках этих добро и милость, любовь и мудрость — невзрачны, как следы Божьих ног на асфальте. Но зато беспорядочно и щедро наляпана красота, как выплеснувшаяся из ведра космического Маляра краска.
Ефим уже знал, что Рай Томы будет пуст. Или же она будет помнить о причинённом ему зле, блуждая между пуфиками из журнала «Бурда».
Только в преддверии конца Ефим наконец догадался, что Птах просто не сумел создать для него родного человека, как не сумел многого другого. У Птаха не хватило фантазии, не случайно он тогда винился и плакал. Значит, Ефим сам должен покорпеть над созданием совершенного образа для вечности. Он боялся — ошибиться, не додумать, не успеть. Но ведь «кто не захочет потрудиться душой — тому кукиш, кто не спрятался, я не виноват»…
Теперь он понял, что и Люба была неслучайна. Те минуты в сумерках перед телевизором, когда она создавала для него видение, — ценны. Они дали Ефиму представление о причёске. Образ горней подруги начинал понемногу складываться. Некоторые черты, приходящие по наитию, затмевали всё, виденное на Земле. И даже Томино.
Он стал скучать по вымышленной диковинке, и ему казалось, что она тоже скучает и уже ждёт его где-то за облаком. Его ли? Конечно — того, кто её выдумал. Её каштановые волосы, её имя. Он захотел звать её Маша, это имя полно было для него вселенского уюта, который происходил из строки «У самовара я и моя Маша», из картинки Кустодиева, и бог весть из какой ещё классики.
Перед смертью он вдруг испугался — всё ли в порядке, правильно ли уложен багаж, оформлены документы. И за диковинку — там ли она, подлинная ли. И потихоньку, пока Люба ходила в магазин в шапке, стащил её парик и сунул в целлофановый пакет. А потом, пока Люба на кухне шлёпала рыбьими телами об доски и скрипела чешуёй, он бочком выполз из дому. Штормовой ветер стремглав понёс его к почте…
Ефим оформил свою последнюю бандероль. Графу адреса он заполнил легко, единицы и певучие гласные за жизнь сделались молитвой, которую он знал вернее, чем алфавит. На том же бланке, в положенной графе, он уместил приветствие:
«Маша, вот тебе волосы. А я скоро буду, жди! Но я хочу быть Там совсем живым, — добавил он для Птаха, — не таким, как здесь, даже пока был молодым и живым. И поскорее!» Он чувствовал бесконечную слабость, тяжесть и жар в голове, как будто исчезал и растворялся. А нужно ещё вернуться домой.
Люба распереживалась — оказалось, Ефим ушёл в пижамных брюках. «Ну и что ж такого, окошечко для посылок на почте на уровне груди. А там у меня были пиджак и шарф», — пытался он втолковать Любе. Но та закрыла дверь на замок и спрятала ключ…
Парик пропал, дом запущен, Ефим становился всё страшнее с виду и тяжелее дышал. Люба повязала платок, созвала сектантов: Тому, театрального режиссера, художника.
Они пришли. Сели и стали ждать. Люба тоже сидела и смотрела.
Ефим произнёс: «Домой, домой, домой…» — и вышел через дверь, ключ от которой был спрятан у Любы в кармане. Остальные ошарашенно смотрели вслед, переглядывались и шептались…
Потом было последнее человекообразное действо, и огонь, испепеляющий позор яви.
А на следующий день Люба позвонила Томе. Она рыдала и причитала: «Он, перед тем как умереть, меня предал. Взял мой парик и отослал какой-то Маше! Но она выбыла. Он растерзал меня! Это — не парик, это — мои останки». Люба причитала: «Ему меня не жалко. Если бы эта Маша не выбыла, я бы осталась с голой головой. Ведь знала — нельзя доверять сектанту. Мне ещё повезло, что он не отослал мои зубы».
Тома пришла. Люба встретила её в своём вновь обретённом парике и показала бланк с наляпанной печатью «адресат выбыл». Тома испуганно бросилась сверять собственную запись адреса с злополучным адресом на бланке. Ефим допустил ошибку. У него семёрка потеряла поясок и сделалась единицей.
Тома засомневалась: Ефим ошибся только в последний раз или всю жизнь отправлял свои письма и бандероли по неправильному адресу? Попросила посмотреть его записную книжку. Растворила сразу на букве «П» и увидела несомненную верную семёрку. «Должно быть, он ошибся только однажды. Я буду еще внимательнее надписывать конверты», — суетливо подумала Тома.