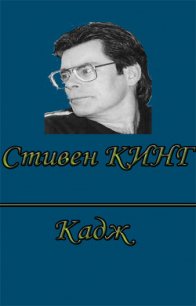Оно - Кинг Стивен (читать онлайн полную книгу .TXT) 📗
…подходит к ней первым, потому что испуган больше всех. Подходит к ней не как друг того лета и не как любовник на этот момент. Подходит, как подходил к матери тремя или четырьмя годами раньше, чтобы его успокоили. Он не подается назад от ее гладкой обнаженности, и поначалу она даже сомневается, что он это чувствует. Он трясется, и хотя она крепко прижимает его к себе, темнота такая черная, что она не может его разглядеть, пусть он и предельно близко. Если бы не шершавый гипс, он мог бы сойти за призрака.
— Что ты хочешь? — спрашивает он ее.
— Ты должен вставить в меня свою штучку, — говорит Беверли.
Эдди пытается отпрянуть, но она держит его крепко, и он приникает к ней. Она слышит, как кто-то — думает, что Бен — шумно втягивает воздух.
— Бевви, я не могу этого сделать. Я не знаю как…
— Я думаю, это легко. Но ты должен раздеться. — В голове возникает мысль о сложностях, связанных с рубашкой и гипсом, — их надо сначала отделить, потом соединить — и уточняет: — Хотя бы сними штаны.
— Нет, я не могу! — Но она думает, что часть его может, и хочет, потому что трястись он перестал, и она чувствует что-то маленькое и твердое, прижимающееся к правой стороне ее живота.
— Можешь, — возражает она и тащит его на себя. Поверхность под ее спиной и ногами твердая, глинистая и сухая. Далекий шум воды навевает дремоту и успокаивает. Она тянется к Эдди. В этот момент перед ее мысленным взором появляется лицо ее отца, суровое и угрожающее,
(я хочу посмотреть, целая ли ты)
и тут она обнимает Эдди за шею, ее гладкая щека прижимается к его гладкой щеке, и когда он нерешительно касается ее маленьких грудей, она вздыхает и думает в первый раз: «Это будет Эдди», — и вспоминает июльский день — неужели это было всего лишь в прошлом месяце? — когда в Пустошь никто не пришел, кроме Эдди, и он принес с собой целую пачку комиксов про Маленькую Лулу, которые они читали большую часть дня. Маленькая Лулу, которая собирала библянику и вляпывалась в самые невероятные истории, про ведьму Хейзл и всех остальных. И как весело они провели время.
Она думает о птицах; особенно о граклах, и скворцах, и воронах, которые возвращаются весной, и ее руки смещаются к ремню Эдди и расстегивают его, и он опять говорит, что не сможет это сделать; она говорит ему, что сможет, она знает, что сможет, и ощущает не стыд или страх, а что-то вроде триумфа.
— Куда? — спрашивает он, и эта твердая штучка требовательно тыкается во внутреннюю поверхность ее бедра.
— Сюда, — отвечает она.
— Бевви, я на тебя упаду. — И она слышит, болезненный свист в его дыхании.
— Я думаю, так и надо, — говорит она ему, и нежно обнимает, и направляет. Он пихает свою штучку вперед слишком быстро, и приходит боль.
— С-с-с-с. — Она втягивает воздух, закусив нижнюю губу, и снова думает о птицах, весенних птицах, рядком сидящих на коньках крыш, разом поднимающихся под низкие мартовские облака.
— Беверли? — неуверенно спрашивает он. — Все в порядке?
— Помедленнее, — говорит она. — Тебе будет легче дышать. — Он замедляет движения, и через некоторое время дыхание его ускоряется, но Беверли понимает, на этот раз причина не в том, что с ним что-то не так.
Боль уходит. Внезапно он двигается быстрее, потом останавливается, замирает, издает звук — какой-то звук. Она чувствует, что-то это для него означает, что-то экстраординарное, особенное, что-то вроде… полета. Она ощущает силу: ощущает быстро нарастающее в ней чувство триумфа. Этого боялся ее отец? Что ж, он боялся не зря. В этом действе таилась сила, мощная, разрывающая цепи сила, ранее запрятанная глубоко внутри. Беверли не испытывает физического наслаждения, но душа ее ликует. Она чувствует их близость. Эдди прижимается лицом к ее шее, и она обнимает его. Он плачет. Она обнимает его, и чувствует, как его часть, которая связывала их, начинает опадать. Не покидает ее, нет, просто опадает, становясь меньше.
Когда он слезает с нее, она садится и в темноте касается его лица.
— Ты получил?
— Получил — что?
— Как ни назови. Точно я не знаю.
Он качает головой, она это чувствует, ее рука по-прежнему касается его щеки.
— Я не думаю, что это в точности… ты знаешь, как говорят большие парни. Но это было… это было нечто. — Он говорит тихо, чтобы другие не слышали. — Я люблю тебя, Бевви.
Тут ее память дает слабину. Она уверена, что были и другие слова, одни произносились шепотом, другие громко, но не помнит, что говорилось. Значения это не имеет. Ей приходилось уговаривать каждого? Да, скорее всего. Но значения это не имело. Один за другим они уговаривались на это, на эту особую человеческую связь между миром и бесконечным, единственную возможность соприкосновения потока крови и вечности. Это не имеет значения. Что имеет, так это любовь и желание. Здесь, в темноте, ничуть не хуже, чем в любом другом месте. Может, и лучше, чем в некоторых.
К ней подходит Майк, потом Ричи, и действо повторяется. Теперь она ощущает некоторое удовольствие, легкий жар детского незрелого секса, и закрывает глаза, когда к ней подходит Стэн, и думает об этих птицах, весне и птицах, и она видит их, снова и снова, они прилетают все сразу, усаживаются на безлистные зимние деревья, всадники ударной волны набегающего самого неистового времени года, она видит, как они вновь и вновь поднимаются в воздух, шум их крыльев похож на хлопанье многих простыней на ветру, и Беверли думает: «Через месяц все дети будут бегать по Дерри-парк с воздушными змеями, стараясь не зацепиться веревкой с веревками других змеев». Она думает: «Это и есть полет».
Со Стэном, как и с остальными, она ощущает это печальное увядание, расставание с тем, что им так отчаянно требовалось обрести от этого действа, — что-то крайне важное — оно находились совсем близко, но не сложилось.
— Ты получил? — вновь спрашивает она, и хотя не знает точно, о чем речь, ей понятно, что не получил.
После долгой паузы к ней подходит Бен.
Он дрожит всем телом, но эта дрожь вызвана не страхом, как у Стэна.
— Беверли. Я не могу. — Он пытается произнести эти слова тоном, подразумевающим здравомыслие, но в голосе слышится другое.
— Ты сможешь. Я чувствую.
И она точно чувствует. Есть кое-что твердое; и много. Она чувствует это под мягкой выпуклостью живота. Его размер вызывает определенное любопытство, и она легонько касается его штуковины. Бен стонет ей в шею, и от его жаркого дыхания ее обнаженная кожа покрывается мурашками. Беверли чувствует первую волну настоящего жара, который пробегает по ее телу — внезапно ее переполняет какое-то чувство: она признает, что чувство это слишком большое
(и штучка у него слишком большая, сможет она принять ее в себя?)
и для него она слишком юна, того чувства, которое слишком уж ярко и остро дает о себе знать. Оно сравнимо с М-80 Генри, что-то такое, не предназначенное для детей, что-то такое, что может взорваться и разнести тебя в клочья. Но сейчас не место и не время для беспокойства: здесь любовь, желание и темнота. И если они не попробуют первое и второе, то наверняка останутся только с третьим.
— Беверли, не…
— Да. Научи меня летать, — говорит она со спокойствием, которого не чувствует, понимая по свежей теплой влаге на щеке и шее, что он заплакал. — Научи, Бен.
— Нет…
— Если ты написал то стихотворение, научи. Погладь мои волосы, если хочешь, Бен. Все хорошо.
— Беверли… я… я…
Он не просто дрожит — его трясет. Но вновь она чувствует: страх к этому состоянию отношения не имеет — это предвестник агонии, вызванной самим действом. Она думает о
(птицах)
его лице, его дорогом, милом жаждущем лице, и знает, что это не страх; это желание, которое он испытывает, глубокое, страстное желание, которое теперь едва сдерживает, и вновь она ощущает силу, что-то вроде полета, словно смотрит сверху вниз и видит всех этих птиц на коньках крыш, на телевизионной антенне, которая установлена на баре «Источник Уоллиса», видит улицы, разбегающиеся, как на карте, ох, желание, точно, это что-то, именно любовь и желание научили тебя летать.