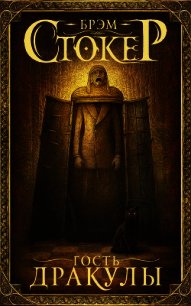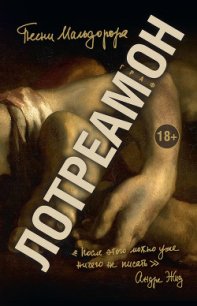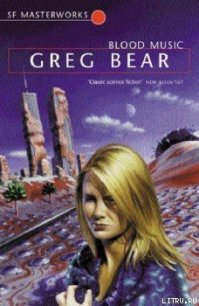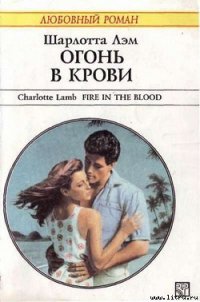Бокал крови и другие невероятные истории о вампирах - Дюкасс Изидор-Люсьен "Лотреамон"
— Еще в юности я потерял мать; отец отправил меня в оксфордский колледж. Он никогда не выказывал особой любви ко мне и навещал меня раз в год, приезжая из Лондона в колледж, где я взрослел, одинокий душой, лишенный привязанностей и ласки. Там я узнал печаль. Внешне, как говорили, я был копией матери; полагаю, именно поэтому доктор Лин старался видеть меня как можно реже. Вот какие мысли меня посещали… Простите мое сумбурное повествование.
Когда я говорю обо всем этом, я испытываю невыразимое волнение. Постарайтесь меня понять. Итак, я жил в душевном одиночестве, я познавал печаль в этой школе с черными стенами; до сих пор они встают передо мной в лунные ночи. О, я изучил печаль вдоль и поперек! Я помню те тополя и кипарисы за окном моей комнаты, залитые бледным и зловещим лунным светом — почему в школе посадили кладбищенские кипарисы? В саду стояли древние, выветрившиеся и изъеденные проказой времени межевые столбы с изображениями бога Термина [9]. На них обыкновенно восседали совы, которых разводил ректор, отвратный семидесятилетний горбун — для чего, зачем ректор разводил этих сов? Мне и сейчас слышится в ночной тиши совиный полет и скрежет их хищных клювов, а в полночь, могу поклясться, до меня доносился зов: «Джеймс!» О, этот голос!
Мне исполнилось двадцать. Однажды мне сообщили, что скоро приедет отец. Я обрадовался, хотя подсознательно ощущал отвращение к отцу; да, я обрадовался, потому что мечтал в то время излить свою душу хоть кому-нибудь, пусть даже ему. Он приехал и вел себя дружелюбней, чем прежде; правда, он избегал смотреть мне в лицо и говорил суровым, однако не лишенным известной доброты тоном. Я сказал ему, что окончил курс и хотел бы вернуться в Лондон, добавив, что в стенах школы умру от тоски. Он произнес все так же сурово, но дружески:
— Я и сам собирался, Джеймс, забрать тебя прямо сейчас. Ректор говорит, что здоровье твое оставляет желать лучшего — ты страдаешь бессонницей и плохо ешь. Излишние занятия вредны, как любые излишества. Кроме того, хочу сказать еще одно: у меня имеются свои причины увезти тебя в Лондон. Я достиг того возраста, когда человек нуждается в поддержке — и такую опору я нашел в тебе. У тебя теперь есть мачеха: я вас познакомлю, она мечтает поскорее встретиться с тобой. Ты сегодня же отправишься со мной.
Мачеха! Я вдруг вспомнил свою нежную, бледную, светловолосую мать: как любила она меня, как баловала, буквально брошенная отцом, проводившим дни и ночи в своей ужасной лаборатории, пока этот несчастный и хрупкий цветок увядал. Мачеха! Значит, мне предстоит испытать тиранию новой жены доктора Лина, какого-нибудь, вероятно, засушенного до одури синего чулка, жестокой и язвительной всезнайки или попросту ведьмы. Вы должны меня простить. Иногда я сам не знаю, что говорю, а может, слишком хорошо знаю.
Я ничего не ответил отцу. Как он и решил, мы сели на поезд и направились в Лондон.
С самой минуты прибытия, только войдя в старинную величественную дверь нашего особняка и увидев темную лестницу, выходящую на жилой этаж, я был неприятно поражен: в доме не осталось никого из прежних слуг. Четверо или пятеро стариков в черных обвисших ливреях медленно, с трудом и молча нам поклонились. Мы вошли в большую гостиную. Здесь все изменилось: старую мебель сменила новая, выдержанная в строгом и холодном стиле. Лишь в глубине комнаты, как и раньше, висел большой портрет моей матери кисти Данте Габриэля Россетти [10], завешенный длинной креповой вуалью.
Отец отвел мне комнату рядом с лабораторией. Затем он распрощался и пожелал мне спокойного отдыха. Движимый какой-то необъяснимой вежливостью, я спросил о мачехе. Он ответил мне сдержанно, подчеркивая слоги — в голосе его звучала нежная привязанность и непонятное мне тогда опасение:
— Вы увидитесь позже… Не беспокойся ни о чем, Джеймс. Отдыхай.
Ангелы Господни, почему вы не взяли меня к себе? А ты, мама, милая мамочка, мой прекрасный цветок, почему ты не забрала меня в тот миг? О, лучше бы меня поглотила бездна, измолотили скалы или дотла сожгла пламенная молния!
Это случилось в тот же вечер. Я рухнул на постель, как был, в дорожной одежде, чувствуя странное телесное и духовное изнеможение. В полусне, помнится, я услышал, как один из стариков-слуг вошел ко мне в комнату. Он что-то проворчал и искоса, будто в кошмаре, уставился на меня прищуренными глазами. В руке он держал канделябр с тремя восковыми свечами. Проснулся я около девяти; свечи еще горели.
Я умылся и переоделся. В коридоре раздался звук шагов, и появился отец. Впервые, да, впервые его взгляд встретился с моим. Глаза у него были неописуемые — уверяю вас, таких глаз вы никогда не видели и не увидите: белки были почти красные, как у кролика, и смотрел он так, что я задрожал.
— Пойдем, сын мой. Мачеха ждет тебя. Она там, в гостиной. Идем.
В гостиной, в кресле с высокой спинкой, сидела женщина.
Она…
И отец:
— Подойди ближе, Джеймс, малыш мой, подойди!
Я машинально приблизился к креслу. Женщина подала мне руку… И я услышал тот же голос, что слышал в Оксфорде, голос, словно исходивший от портрета, от большой картины, завешенной крепом, но очень печальный, гораздо печальнее: «Джеймс!»
Я протянул руку. Прикосновение ее руки ужаснуло меня. Я замер. Холод пронзил меня до костей. Рука застывшая и холодная, ледяная. Женщина даже не взглянула на меня. Я пробормотал какое-то приветствие, какой-то комплимент.
Заговорил отец:
— Жена моя, вот твой пасынок, наш любимый Джеймс. Погляди на него, он перед тобой. Отныне он и твой сын.
Мачеха глянула на меня. Мои зубы невольно сжались. Меня охватил ужас: в этих глазах не было ни искры света. Безумная, ужасная, ужасная явь становилась все яснее. И вдруг — запах, запах… этот запах… Мать моя! Бог мой! Я не в силах сказать — но вы уже поняли, а во мне все восстает, и волосы встают дыбом…
А после из этих белых губ, из уст этой бледной, бледной, бледной женщины донесся голос, гулкий и стонущий, словно из подземной каверны:
— Джеймс, дорогой Джеймс, сын мой, подойди поближе, я хочу поцеловать тебя, поцеловать в лоб, поцеловать в глаза, в губы…
Я не выдержал и закричал:
— Мамочка, на помощь! Спасите, ангелы Господни! Силы небесные, спасите! Я хочу выбраться! Уведите меня скорее из этого места!
Я услышал отцовский голос:
— Успокойся, Джеймс! Успокойся, сын мой! Замолчи, сын.
— Нет, — еще громче закричал я, отбиваясь от стариков в ливреях, — я убегу и всем расскажу, что доктор Лин — жестокий убийца, что жена его — вампир, что мой отец женат на мертвой!
Лоуренс Даррелл
Карнавал в Венеции
Говорили они в тот вечер об Амариле, о его несчастливой страсти к паре безымянных рук, к анонимному голосу из-под маски; и Персуорден принялся рассказывать одну из знаменитых своих историй — на суховатом, грамматически безупречном французском, может быть, самую малость чересчур безупречном.
«Когда мне было двадцать лет, я в первый раз поехал в Венецию по приглашению одного итальянского поэта, с которым состоял тогда в переписке, Карло Негропонте. Для молодого англичанина из небогатой буржуазной семьи это был совершенно иной мир, великое Приключение — древний полуразрушенный палаццо на Канале Гранде, где жили в буквальном смысле слова при свечах, целый флот гондол в моем распоряжении — не говоря уже о богатейшем выборе плащей на шелковой подкладке. Негропонте был великодушен и не жалел усилий, чтобы приобщить собрата по перу к искусству жить сообразно с канонами высокого стиля. Ему тогда было около пятидесяти, он был хрупкой комплекции и довольно красив, как некая редкая разновидность москита. Он был князь и сатанист, и в его поэзии счастливо сочетались влияния Бодлера и Байрона. Он носил плащи и туфли с пряжками, ходил с серебряною тросточкой и меня склонял к тому же. Я чувствовал себя так, словно приехал погостить в готический роман. И никогда в жизни я больше не писал таких плохих стихов».