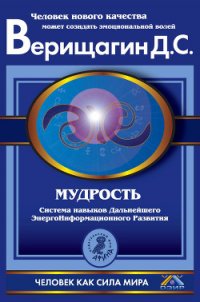Равноденствия. Новая мистическая волна - Силкан Дмитрий (читать полные книги онлайн бесплатно .txt) 📗
Мужчины к нему тянулись. Они не замечали странной хвори Андрея Ивановича и заходили на разное. Понимающе приносили водочки и рассаду.
«Взял бы тебя кто в жёны!» — посмеивался один, попивая коньячок. Но обид не было.
Комнату оплетала растительность, в шкафу стояли подарки, рамочки с лицами и плошки с печеньем. Статуэтки тут же ютились, и всё было такое чистое, но тем не менее живое, что иногда, оглядывая своё гнёздышко, Андрей Иванович умилялся и лепетал, смежив розовые ладошки: «До уюта недалеко! До уюта рукой подать! Вот тут поправить, здесь убрать…»
…И ничего не менялось. Делались статуэточные рокировки, срывался в герани засохший лист, пыль вытиралась, а бумаги складывались в стопку. Но уют не наступал. Предметы ненадолго успокаивались, а потом их вновь начинала терзать незаконченность, нестройность, и Андрею Ивановичу казалось, что вещи вот-вот полопаются от напряжения, а осколки расползутся мелкой живностью. Тогда уют станет и вовсе невозможен. Нечто подобное, правда, однажды уже случалось — куда-то исчезла сервизная ложечка прошлого века с красивой эмалью, а вместо неё на столе обнаружилась горстка пыли и огромный таракан. Андрей Иванович чуть не сошёл с последнего ума. Он окончательно потерял сон, выгнал женщину и перестал пускать на коньячок многочисленных приятелей. Он так отчаянно шипел в замочную скважину, что кое-кто вообще перестал пить, а один, говорят, умер от непонимания. Жизнь превратилась в беспробудный кошмар. В довершение всего сами собой растворились несколько вазочек и засохла геранька. Только неопределённые насекомые ползали окрест, вздымая в застоялый воздух свои раздвоенные хвосты. Стопочки, папочки тут же порушились, скатерть поросла крошками, а в туалете зашуршало животное. Но со временем всё встало на свои места, всё вернулось, ожило, а что-то то ли исчезло, то ли издохло, и это тоже было неплохо.
И уют стал по-прежнему неизменно близок. Тень его виднелась уже во всём. Он явно таился где-то в утробе предметов, но никак не мог проявиться, принять Андрея Ивановича в себя, избавить от этого неутолимого, вечно незавершённого голода. Лишь однажды, да и то в глубоком детстве, голод этот на время успокоился. Тогда маленький Андрюша весь день возился с цветными деревянными кубиками. В какой-то момент его охватило чудное, не носящее названия чувство. Он понял, что конструкция идеальна, совершенна, что, несмотря на хрупкость, в её гармонию можно погрузиться без остатка одним лишь созерцанием. Андрюша замер и, казалось, стал сворачиваться обратно, в комок, вползать в тёмное лоно уюта. Так бы и случилось, если бы жизнь не вмешалась… Уют был разрушен, и с тех пор беспокойный зуд утраченного совершенства преследовал Андрея Ивановича везде и повсюду. «В лоно, в лоно!» — жалобно стонал он по ночам. И женщины пугались собственной неуместности… А очередная из них оставила эти цветы. Андрей Иванович не доверял ей и раньше, но ожидать такой подлости…
Он сидел и, окаменев от ужаса, пытался прогнать несусветную алую муть, поселившуюся на его покрытом кружевной скатерочкой столе. И вдруг стало ясно, и ясность эта прогрызла в нём огромную дыру, что это — конец, что за этими алыми цветами — пропасть, ещё раз пропасть и ничего, кроме пропасти. Мир вокруг стал сжиматься, а дыра, прожжённая одной лишь мыслью — расти., Очень скоро от Андрея Ивановича остался только тревожный бублик, мерцающий в последней попытке забраться в уютное лоно…. В страшную дыру. А она, тёмная, гулкая, всё росла и росла. По мере роста она втягивала в себя и бублик, унося Андрея Ивановича всё дальше и дальше от молчаливого алого хохота. И, вздрогнув напоследок, он окончательно провалился в это мягкое нутро… В этот вечный, душистый уют…
Хохот
Борис Семёнович сторонился смеющихся людей. Не из зависти вовсе. В содрогании их тел, запрокинутых головах с закатившимися глазами виделось ему что-то трупное.
«Не бывают живые люди такими, и всё тут!» — говорил он Катерине, грустной девочке лет семи, тоже несмеяне. Часто, забившись на дальней сырой скамейке в самой утробе парка, говорили они, храня себя от хохотунчиков. А когда те всё же их настигали, спасались ещё глубже, в чаще таких изгибов и отблесков, что девочкины волосы начинали змеиться, а у Бориса Семёновича то и дело отрастал птичий клюв. Одинокими быть они не умели. Внутри каждого неспешно ворочался целый выводок чертоангелов, певших свои сумрачно-ясные песни, рассевшись на хрупких веточках бесконечных бесед.
Не то чтоб они жизни не рады были. Просто смех человечий пугал их. Как и Солнце. «Злое, страшное оно. Вот-вот зубами клацнет», — шептала, плача в тёмном углу, Катя. «Да, изрядно почуждело…» — соглашался, недобро щурясь на светило, Борис Семёнович.
Настоящее Солнышко спряталось или, скорее, по недоброй воле попало в плен к пустотелым тварям. Иногда, когда самозванец прятался, можно было увидеть их смутные тени в тоскующих небесах. Солнышко не гасло — оно сидело в своём плену всемирной шаровой молнией, всё больше и больше наливаясь соком. Расточать жизнь было совершенно не на кого. Распухая без всякой меры, оно готовилось к своему полноводию. А пустотелые стражи не знали ни Солнца, ни Луны, только хохот человечий… Катеньке всё чаще и чаще виделось, как усталое Солнышко вырывается из своих снов, и тогда каждая душа, каждое тело, мысль; любая лопается огнём. Даже Луна трескается, в пламенных рыданиях светя в прервавшейся полночи, новорождённой колесницей верша уму непостижимый день.
Борис Семёнович и Катя обожали Луну. Солнышко-то далеко. К тому же, как говаривал один мудрец, «ему — егойное, а Луне — лунное!». Не протягивать же паутинку к бликующему обманщику. Откуда набирался он сил, чей скрежет зеркалил и что за светляк по нутру его пустому скакал, не знал никто и знать не мог. Нет такой головы, чтоб в таких вещах разбираться…
Луна пока держалась… И смеха людского не любила, видя в нём судорожное «браво» тюремщикам своего брата, а вовсе не радость какую… Целыми ночами она, отражая гнилое мерцание последнего наглеца, грустила, лелея мечту о Дне, когда они вместе прокатятся по пылающему небосклону.
Раззявленный хохот этот вёл прямо в пустотелое логово, где уже и не до смеха вовсе и даже не до плача — только пустота страшная перед самым Солнышкиным вскриком. Глядя на мир, Катерина всё больше сворачивалась внутрь себя, пропитываясь собственной бесшумной радостью. — Закрывшись лианами длинных волос, она то тянулась к пленному Солнышку, постепенно вползая в убежище, переполненное словами и снами, которые и пересказать-то никому нельзя, даже Борису Семёновичу… Потому как нет таких звуков — слова те пересказывать, а для снов ничего и подавно нет.
Он, тоже прячась в сумрачной тиши, о пленном светиле знал лишь с девочкиных слов, в которые без памяти верил — всей душой, как в тень свою, в отблеск или там в Бога… И всё старался вместить. Вглядываясь в бледное Катино личико, пытался он поймать в глазах её Солнышкину тоску. Когда тёмное дно зрачков наконец-то вздрагивало и раскрывалось, Борису Семёновичу часто хотелось, чтобы он и не рождался вовсе и поныне плескался в беспамятстве.
День ото дня поблёскивание чумное становилось всё гуще, и оттого всё чаще стрекотал смех. Его помноженные рты смачно пережёвывали мечущийся в ужасе воздух во славу своего кумира-солнцекрада. И не было этому ни конца ни края. Толпы хохочущих существ заполнили улицы, они носились с яркими предметами, восхваляя и воспевая… «Чудовищно, до чего ж чудовищно…» — горестно подвывал Борис Семёнович, качая слабеющую Катеньку, ближе и ближе подбиравшуюся к Солнышкиной темнице. «До света недалече», — шелестела она, двигаясь в пустоте в живом облаке змеящихся волос. По всему было видно — времени осталась тающая крошечная горстка.
А Борису Семёновичу придумалось засмеяться. Рассуждал он вот как: если вражьи слуги хохочут, значит, сила какая-то в этом есть. Если же ею завладеть, можно, наверное, победить. И тогда подлец зашипит, задымит головешкой и свалится, Солнышко поднимется и станет светить — людям и сестрёнке своей бледной на радость. Встав перед зеркалом, Борис Семёнович разевал рот и, выпучив как следует глазища, начинал яростно кряхтеть. И звук, и вид получались такие жуткие, что аж зеркало передёргивало, а сам горе-смехун и вовсе забивался в угол — «чур меня, чур!»… Не смешили его шутки людские и прочие явления, служившие хохотунам для их ритуалов. Частенько пробовал он и поддаваться соблазнам Бликующего, но только сильней ужасался и, сам того не желая, скатывался в холодную брешь, где, дрожа и озираясь, змеилась Катенька. Её тело, пропитанное грустью Солнышкиной, день ото дня утекало к своей хозяйке, почти коснувшейся Солнышка. Она бы и слилась с ним, если б не судороги людские, они только и не давали ей с головою нырнуть в родное.