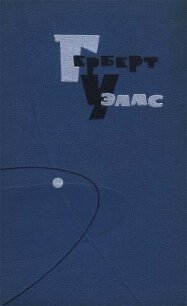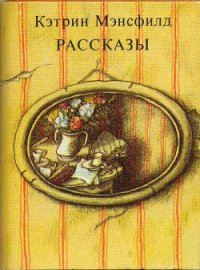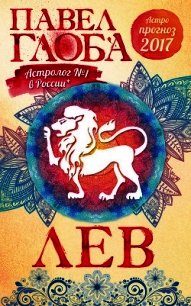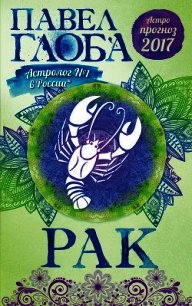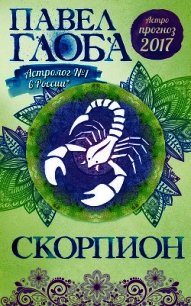Экзорцист. Лучшие мистические рассказы - Уэллс Герберт Джордж (книги онлайн полностью бесплатно .TXT, .FB2) 📗
Над деревушкой Херли-Берли пронеслась гроза. Каждая дверь была заперта, каждая собака спряталась в свою конуру, а каждая сточная канава и колея после прошедшего потопа обратилась в бурливую реку. В миле от деревни, у большого господского дома, перекликались грачи, спеша поведать друг другу, какого страху они натерпелись; молодые олени в парке робко высовывали головы из-за деревьев; старуха, обитавшая в сторожке, поднялась с колен и теперь ставила молитвенник обратно на полку; розы в полном июльском расцвете клонили к земле пышные короны, отяжелевшие от влаги, в то время как другие, сраженные дождем, лежали, румяным венчиком вниз, на садовой тропинке, где Бесс, горничная мистрис Херли, подберет их поутру, когда, как заведено в доме, отправится собирать розовые лепестки, дабы составить из них ароматическое саше для хозяйских покоев. Ряды белых лилий, только сегодня успевших раскрыться во всей красе под лучами солнца, валялись в слякотной грязи. Слезы катились по янтарным щечкам слив, что росли на южной стене. Ни одна пчела не показывалась из ульев, хотя воздух был так благоуханен, что выманил бы наружу и ленивейшего из трутней. Небо за купами дубов на взгорье все еще хмурилось, но уже запорхали птицы вокруг плюща, оплетавшего дом Херли из Херли-Берли.
Гроза, о которой идет речь, разразилась более полувека назад, и потому мы должны помнить, что мистрис Херли, которая теперь, когда стихли громы и молнии, отважилась выбраться из-за кресла своего супруга, была наряжена по моде того времени. Бросая пугливые взоры в сторону окна, она уселась за стол перед супругом, бульоткой для кипятка и пончиками. Нам легко вообразить ее чепец тонкого кружева с персиковыми лентами, оборку на подоле ее батистового платья, почти доходящего до щиколоток, чулки с вышивкой «часами», розетки на ее туфлях, но куда сложнее представить себе сиреневый перелив ее кротких глаз, атласную кожу, еще сохранившую нежную свежесть, хотя и тронутую морщинками, и бледные, милые, надутые губки, которым время и печаль придали нечто ангельское, но так и не сумели разрушить их красоту. Сам сквайр обликом был столь же суров, сколь нежна его жена: ее кожа была бела, его – загорела и обветрена, ее волосы лежали гладко, его – топорщились седой щетиной; годы пропахали на его лице глубокие борозды; сквайр, человек холерического склада, обычно вел себя шумно и бесцеремонно, однако с недавних пор глаза его потускнели, громкий голос стал глуше, а походка утратила бодрость. Он часто взглядывал на жену, а она на него. Она была невысока ростом, а он лишь на голову выше. Невзирая на различия, они были ладной парой. Жена двигалась резко и нервно, но говорила нежным голосом и смотрела кроткими глазами; речи и взгляд мужа казались грубоватыми, но в повороте головы сквозило благородство. Теперь они подходили друг другу не в пример лучше, чем когда-либо в прошлом, в расцвете юной страсти. Печаль сблизила супругов и придала им известное сходство. В последние годы жена только и делала, что восклицала: «Хватит тиранить моего сына», а муж твердил: «Ты ему слишком потакаешь, избалуешь вконец». Но теперь не стало божка, на которого прежде были обращены их взоры, и супруги отныне лучше видели друг друга.
Комната, где они сидели, представляла собой уютную старомодную гостиную, с тонконогими, как пауки, предметами обстановки. На сообразных местах располагались спинет и гитара, а подле них были в изобилии сложены переписанные ноты; пол устлан ковром с темно-коричневыми венками на бледно-голубом фоне; голубые стены с желобчатой, как внутренность ракушки, штукатуркой, мебель в потускневшей позолоте. В оконной нише красовалась внушительная ваза, полная роз, сквозь открытое окно из сада веяли восхитительные ароматы, и птицы щебетали совсем близко, устраиваясь на ночлег в пышном плюще, а порой слышалась торопливая скороговорка дождевых капель, которые сеялись на землю, когда мокрую ветвь теребил ветер. Бульотка для кипятка на столе была серебряная, старинной работы, а чайная посуда – тонкого фарфора. Ничто в гостиной не было предназначено нежить тело, но все утонченно услаждало глаз.
(window.adrunTag = window.adrunTag || []).push({v: 1, el: 'adrun-4-390', c: 4, b: 390})Над Херли-Берли воцарилась тишина, которую нарушали одни лишь грачи. В продолжение целого месяца всякая живая тварь томилась от жары, теперь же, в согласии с Природой, мирно и молчаливо впивала благодать освеженного грозою воздуха. Хозяин и хозяйка Херли-Берли разделяли настроение, в которое погрузилась округа, и за чаем были неразговорчивы.
– Веришь ли, – заговорила наконец мистрис Херли, – когда я услыхала первый раскат грома, то подумала, что это… это…
Она осеклась, губы ее задрожали, и персиковые ленты кружевного чепца взволнованно заколыхались.
– Тьфу! – воскликнул старый сквайр, и чашка его задребезжала о блюдце. – Обо всем этом давно пора позабыть. Уже три месяца, как ничего не слыхать.
В этот самый миг до слуха супругов донесся грохот. Хозяйка дома, дрожа, вскочила и стиснула руки, а тем временем струйка воды из бульотки затопила чайный поднос.
– Чепуха, моя дорогая, – произнес сквайр, – это всего лишь стук колес. Кто бы мог приехать?
– В самом деле, кто? – пробормотала его супруга и уселась обратно, вся трепеща от волнения.
На пороге возникла та самая собирательница розовых лепестков, хорошенькая Бесс, в вихре голубых ленточек.
– Мадам, прибыла дама, говорит, что ее ожидают. Попросила показать отведенные ей покои, и я устроила ее в комнате, которую приготовили для мисс Калдервуд. Она кланяется вам, мадам, и обещает спуститься через минуту-другую.
Сквайр воззрился на супругу, а она на него.
– Тут какая-то ошибка, – пробормотала хозяйка дома. – Должно быть, гостья ехала к Калдервудам или Грейнджам. Какое необычайное происшествие.
Не успела она договорить, как дверь вновь отворилась и в гостиную вошла незнакомка – хрупкое создание, барышня или дама, сказать было затруднительно, но облаченная в скромное платье черного шелка и в белой муслиновой пелерине на узких плечиках. Волосы гостьи были зачесаны высоко на макушку, и лишь на низкий лоб свисала челка, не достававшая до бровей. Смуглое худощавое лицо, глаза черные, удлиненные, обведены темными кругами, губы полные, нежные, но печально опущенные; нос и подбородок ничем не выделялись. Вся она была: голова, глаза и губы.
Гостья скорым шагом пересекла комнату, сделала реверанс посреди гостиной и, приблизившись к столу, с мягким итальянским выговором объявила:
– Сэр, мадам, я прибыла. Я явилась играть на вашем органе.
– На нашем органе? – Мистрис Херли так и ахнула.
– На нашем органе? – Сквайр оторопел.
– Да, на органе, – повторила крошечная незнакомка и перебрала пальчиками по спинке стула, как если бы нащупывала клавиши. – Не далее как на прошлой неделе прекрасный собой синьор, ваш сын, переступил порог моего домика, где я жила и давала уроки музыки с тех пор, как скончались мой англичанин-батюшка и итальянка-матушка и мои братья и сестры, оставив меня совсем одну.
Тут гостья прекратила барабанить по спинке стула и по-детски, обеими руками, утерла с ресниц две крупных слезы. Но в следующее мгновение пальцы снова забегали по стулу, словно гостья могла говорить лишь при условии, что они выбивают свою неустанную дробь.
– Благородный синьор, ваш сын, – продолжала маленькая гостья, доверчиво взглядывая то на хозяина, то на хозяйку и ярко заалевшись всем своим смуглым личиком, – часто навещал меня, неизменно по вечерам, когда мой скромный кабинет заливало золотыми лучами вечернее солнце и музыка переполняла мое сердце, и я вкладывала в игру всю свою душу. Вот тогда-то он обыкновенно и приходил и говорил мне: «Поторопись, малютка Лиза, играй лучше, как можно лучше. У меня для тебя в скором времени будет много работы». Иногда он восклицал «Brava!»[2], а иногда «Eccellentissima!»[3], но как-то вечером на прошлой неделе он пришел ко мне и сказал: «Довольно. Обещаешься ли ты исполнить мою просьбу, какова бы она ни была?»