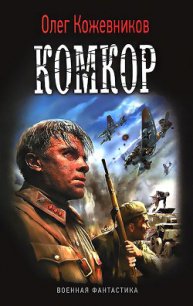Мёртвый хватает живого (СИ) - Чувакин Олег Анатольевич (библиотека книг бесплатно без регистрации .TXT) 📗
— Ах ты, бляха медная!.. — Почему-то его очень рассердило то, что слетела шапка. Шапка делала его немного выше. Он и летом носил всякие такие кепки нарочно, чтобы с Катериной выглядеть повыше. Да что шапка!.. Костя лежал, упираясь локтями в тротуар, и смотрел — смотрел на того, с белой рукой, белыми ногтями. В руке у Кости был зажат пистолет.
Тот уже высился, наклонялся над ним, сбоку. И угловым каким-то зреньем Костя увидел, что и второй тип из «Жигулей», водитель, вылезает следом за этим белолицым-белоруким — не через свою дверь, а ползёт через открытую пассажирскую.
— Стрелять буду! — крикнул Костя и не узнал своего голоса. Что-то дикое, пронзительное, военное появилось в его голосе. И страх — проявился в крике страх, тот страх, который единственно и даёт настоящий приказ стрелять. Применять огнестрельное оружие, не дожидаясь команды. И Костя, чувствуя холод от наклонившегося над ним белого лица с распахнутым ртом, от белых рук, снял пистолет с предохранителя, передёрнул затвор и с тем накопившимся желанием, словно дожидался разрешенья на стрельбу в человека с самого детства, выстрелил.
В человека Костя стрелял впервые. До этого он упражнялся только в милицейском тире и на стрельбищах. Кулёмин (ему было не то тридцать пять, не то сорок три, человек с морщинистым лицом, с уставшим лицом, устанешь в звании старлея на сержантской должности; Кулёмыч вспоминал, что вроде бы совсем недавно инспектора были лейтенантами и старлеями, а нынче либо покупаешь должность, если выгодная подвернётся, либо торчишь-унижаешься на сержантской, и чувствуешь себя половиной человека) объяснял, что стрелять в человека — не так-то просто, что к этому надо быть готовым психически и психологически. Это звучало очень умно, казалось философией и, понятно, суровой правдой милицейской жизни. «А вот ни хрена», — думал сейчас Костя.
Пулю белолицему он влепил в колено. Тот упал. Косте стало страшно. Он нашарил в снегу шапку, надел. Отполз. Упавший человек, с пулей в ноге, поднялся, и, волоча простреленную ногу, шагнул к Косте. И второй из «Жигулей», водитель, тоже пошёл к Косте. Каждый шаг обоим — и простреленному, и непростреленному, — давался будто с великим трудом. Они шли как каменные. Как памятники какие-то.
— Я убью вас, — прошептал он. И понял: и вправду убьёт. — Кто вы такие? Что вам надо? — Он направил на них «ПМ». Кажется, тот, кому он прострелил ногу, и не пискнул от боли. Такого не могло быть, но такое было. Или он не слышал вскрика? Он оглох? Он всё видел, но ничего не слышал. Это всё страх. Лицо у него, наверное, красное, потное, зрачки расширились, и меньше всего он похож на того, кто совершает подвиг во имя Родины.
— Вам хана, — сказал Костя, когда страшный молчаливый тип, подойдя опять сбоку, обеими белыми руками взял Костино лицо и стал тянуть к себе и одновременно наклоняться. «Почему я лежу?… А этот белый — сильный какой, сволочь!..» Потный Костин палец задрожал на спусковом крючке. Костя вырвал из рук нападавшего лицо (шапка слетела с головы), левой рукой, раскрытой ладонью, что было сил толкнул белую морду, ощутив под перчаткой холодные зубы и холодные, плотные, как бы резиновые губы, но противник ухватился за толкнувшую руку и повалился с нею, видимо, не устояв не простреленной ноге, и поволок за собою Костю. И тут Костя почувствовал сильную боль в левой руке, где-то возле запястья, там, где кончалась перчатка и начинался рукав бушлата. Ему показалось, что от бушлата отрывают рукав, а больно руке.
Костя закричал, чувствуя, как тело его приподнимается на земле, закричал, уже не слыша ничего в мире, кроме собственного крика, а за криком не слыша и выстрелов. Он ткнул ствол пистолета куда-то в худое тело, в куртку-«аляску», и дважды надавил на спусковой крючок.
Худого человека с белым лицом и белыми руками отбросило к дереву на тротуаре. Мальцев видел, как белолицый ударился головой. И слышал стук головы о ствол. Мир понемногу проявлялся. Константин слышал чьи-то вскрики неподалёку, отрывистую короткую команду (Кулёмыч) и три гулких хлопка, очень похожих на «макаровские». Значит, не один он обороняет тут Родину. Значит, он всё правильно делает, он не одинокий вооружённый сумасшедший из милиции, а боец общего героического фронта, и ему надо продолжать борьбу с белыми кавказцами, совсем не похожими на кавказцев — и на террористов с автоматами и взрывчаткой не похожими тоже.
Шофёр «Жигулей», возникший подле Кости, тоже был худой, и лицо его тоже было белое.
— Вот напасть белая!.. Из какого дурдома? Эй, скажи что-нибудь… Ты, гнида!.. — Константин говорил сквозь зубы: искусанная рука болела и горела; он не решался глянуть на неё. Мальцев скрывал от всех, что боялся вида крови. Как-то в школе, сдавая в медпункте кровь из пальца, он потерял сознание, и медичка дала ему понюхать нашатыря. В армии, в медицине и в милиции нельзя бояться крови. Пусть ты и с «палкой полосатой».
А что — с «палкой»?! Рядом хлопнули ещё два выстрела. Кулёмыч отстреливался. Из «Вольво» вылезло целых пятеро, все белые, и двое из них лежали неподвижно, а трое наседали на старлея. И лежал на снегу дружище-капралище Поволяйкин. Лежал в такой позе, в какой лежат только мёртвые.
Константин вскочил. Рука его горела так, будто к ней привязали раскалённую сковороду. Голова кружилась. «А у меня кровь течёт… сильно».
— Вам хана, белолицые гады! А тебе, дылда, хана первому!..
Белолицый водила хотел было куснуть его за горло, но Костя вставил ему пистолет между зубами, отвернулся и выстрелил.
Что-то холодное, мокрое облепило его щёку. Он отдёрнулся, как от прикосновенья чужой неласковой руки. Но ничьей руки не было, а была чужая кровь, он смазал её перчаткой, кровь попала и на руку. Кровь, цветом напоминавшая свекольный сок, какой пила его мама, говорившая, что со стулом у неё всегда был и будет полный порядок.
«Не такая кровь, как у меня», — подумал Костя и увидел небо. Оно кружилось низко, над самыми его глазами, и наклонялось, под разными углами, словно было стеклянной плоскостью. Это было серое, уже зимнее небо с тусклым, размытым белёсым солнечным диском. Костя лежал. С неба в Костины глаза сыпался снег. «Где моя шапка?…» Костя понял, что вот-вот потеряет сознание — от вида крови. Левая рука онемела до самого плеча. Онемение пробралось и в грудь, к сердцу. Это было приятное онемение, с бегущими крупными мурашками по коже и тоже и под кожей, где-то в сухожилиях, в жилах; глубокое, какое-то новокаиновое онемение, убирающее из руки боль, убирающее само понятие боли и воспоминание о ней.
— Женюсь на Кате. Поступлю заочно в институт ЭмВэДэ, — пробормотал Костя. — Закончу. Получу лейтенантские погоны. Деньжат поднакоплю, куплю капитанскую или майорскую должность. Ещё поднакоплю. Куплю подполковничью. Не годится отцу семейства ходить в капралах. И сын никогда не спросит, почему у мамки есть высшее образование, а у папки — нет. Будто папка глуп. А папка не глуп. Это хорошо. Всё хорошо. Никто не глуп. А теперь мне ещё лучше. Всем хорошо, все хорошие.
Он услышал, как кто-то скрипнул по снегу подошвами. Это был первый белолицый, пассажир «Жигулей», поднявшийся у дерева и направившийся к Косте. Он приволакивал простреленную ногу, но всё же ступал на неё, — и нисколько, казалось, не волновался о лёгком, пробитом двумя пулями. «Молодец! — подумал Костя. — А вот я поступил нехорошо: выстрелил в него. Больше я так не буду».
— Вы тоже хороший, — сказал Костя. — Если все люди любят друг друга, то нет ни споров, ни конфликтов. И милиция не нужна. И законы. Это так просто, а я и не догадывался. И боли нет. Давайте-ка поближе, вот так. Устраивайтесь поудобнее. Я вас люблю. И простите меня, пожалуйста. Я больше не буду…
Пассажир «Жигулей» улёгся на младшего сержанта Мальцева, рванул зубами его кадык и стал быстро есть горло; потом, выжрав горло и облившись кровью, стал хватать зубами милицейский бушлат, отвлекаясь и выплёвывая клочья синтепона; потом стал разрывать бушлат там, где были пуговицы, стаскивать с тела бушлат и впиваться зубами в обнажившуюся грудь.