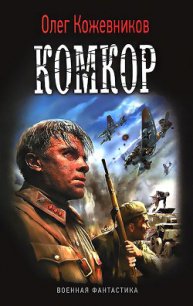Мёртвый хватает живого (СИ) - Чувакин Олег Анатольевич (библиотека книг бесплатно без регистрации .TXT) 📗
— Я тебе, Катя, врать не стану. Ты меня знаешь. Твой азарт — одурачивать простофиль, прочищать им мозги, влезать им в душу так, чтобы они привыкали к тебе как к героину — и без тебя уже не могли обойтись. Ходили бы к тебе на консультации и оставляли бы у тебя денежки. Как в американском кино. Обставленный кабинет в модерновом стиле, жалюзи, пара шкафов с книгами, стол, телефон, кресла… Большие часы на стене — чтобы повременную брать. Вот ты доучишься, диплом получишь — и на мои денежки психологический кабинет откроешь. Мы ведь уже обсуждали это. Плазменный телевизор и новая машина немножко подождут. Я готов потерпеть. Откроешь кабинет, придумаешь рекламу — и народ к тебе потянется. И у меня будут свои психологические истории на дорогах, а у тебя — свои. Со временем целый институт организуешь.
— Мы плохие, Костя, — вздохнула Катя.
— Мы — плохие? — удивился он. — Нет, Катя, мы — обычные.
Глава пятая
Мечта, сказала ему Тоня, бывает личная, частная, то есть маленькая, о себе, любимом, и бывает не о себе — обо всех людях, большая, на весь мир.
Какая мечта была у него, Баранова?
— Какая мечта у тебя, папа?
— У папы завтра трудный день: понедельник, — сказала Рая.
— Рая, всё в порядке, — сказал он. — У меня трудная дочь, а понедельник ничем не отличается от среды. Это для пьяниц он трудный.
Так какая же мечта была у него?
И хочет ли он о своей мечте рассказывать дочери?
Нет, не хочет. Что же это за мечта, о которой рассказываешь? Мечта — это тайна. А то, что рассказал кому-то, больше не мечта. Любой может мечтать об этом же. Вот когда мечта сбылась — тогда о ней можно сказать. И то не всем. Но Тоне-то он бы сказал. А ей бы пора уж понять, что о мечте не говорят, а думают. Мечту мечтают.
— Мама, а ты не мешай мне с папой разговаривать. Перебивать некрасиво, — сказала Тоня Рае. — Почему обычно взрослые учат и воспитывают детей, а в нашем доме — наоборот?
И, пока Тоня отчитывала Раю, а Рая от Тони отбивалась, он помечтал немного.
Помечтал на весь мир — или на тему себя, любимого?
А у него мечта одновременно и о людях, и о себе.
Тоня не понимает этого, но он себя от людей не отделяет. Такая уж у него работа. Точнее, служба.
Вести за собой людей. Вот чего ему хотелось. Он постеснялся бы признаться в этом кому угодно — даже жене и дочери, — и стеснялся и думать об этом. Но любил представлять неясные, тёмные картины, боевые воодушевляющие фрагменты — в красных, чёрных, серых тонах, эпизоды войны, — в которых он вёл, и за ним шли.
В мечтах он был кем-то вроде Минина. Или князя Пожарского. В смутные времена. А времена всегда смутные, или на грани смуты. То кризис, то переворот, то путч, то революция, то фашисты, то новые русские, то Чечня, то Грузия, то снова Чечня. И ему представлялось, как он уедёт за собою людей, и люди побеждают смуту, и благодарят его, и ставят ему памятник, а он отказывается: не нужен ему памятник. Разве что как память сбывшейся мечте… Князь Пожарский… Ничего княжеского и вообще дворянского в сибирском роду Барановых не было (он пытался искать, посещал архив), не было и выдающихся личностей, — но он, подполковник Баранов, начальник первого (мобилизационного) отделения военного комиссариата Ленинского административного округа города Тюмени, сделает свою фамилию достойной сравнения с фамилией Пожарского.
О такой мечте он не мог сказать Тоне. Нет, не только потому, что мечту не выдают, а хранят как военную тайну. Тоня бы смеялась, скажи он ей о своих тёмных картинах. Вот когда за ним пойдут — а в России всё может случиться, и может случиться очень быстро, сегодня у нас мир и производство молочного шоколада, а завтра — война и изготовление ракет и гробов, — и когда те, кто за ним пойдёт, победят, он скажет Тоне: вот моя мечта, Тоня. У меня больше нет мечты, Тоня. И в этот день его дочь переменится. И в её грядущей перемене — его маленькая, частная мечта. Теперь он разделил их: большую и маленькую. Дать победу людям и вернуть себе сердце дочери.
И, горько признаться, он хотел войны. Ещё и поэтому ему нелегко было говорить с Тоней. В том числе и о мечте. Тоня словно чувствовала его тайную, глубоко упрятанную мысль. Ведь чтобы его мечта прорвалась в реальность, должна начаться война.
Но он хотел такой войны, которая бы развязалась… которая бы… справедливой войны. Отечественной. Чтобы напал враг, и народу было бы ясно, что это враг настоящий, а не искусственный, выдуманный какой-нибудь агрессивной партией.
Однако, какая отечественная война, подполковник?… С кем воевать? С каким захватчиком? С Грузией? Это была бы не та война, чтобы поднимать народ. С Украиной — из-за газа? Смешно. С Америкой? Баранов вспомнил четыре года, проведённые в военном училище. Там ему, молодому курсанту, как и всем прочим молодым курсантам, замполит внушал про империалистическую американскую агрессию, про враждебные военные блоки капстран и щёлкал указкой по плёнке карты, на которой были отмечены страны, входящие в НАТО, АНЗЮС и какие-то ещё империалистические захватнические блоки, созданные, несомненно, с одной явной целью: сплотиться в агрессивных интересах и поработить единые и дружные народы СССР. И почему-то Баранов вспомнил картинку из старого номера «Крокодила»: три проткнутые дудкой глотки — радио «Свобода», «Голос Америки», а третье радио он забыл, кажется, «Свободная Европа», — и подпись: «Дудят одну заведомую ложь. Но дудки! Мир на это не возьмёшь».
— Папа, ты меня совсем не слушаешь. Мама перебивает, ты витаешь в облаках. Зачем вам вообще разговаривать со мной, если вы всё равно остаётесь при своём мнении? Делаете вид, что вам интересная моя жизнь? И мои принципы? Папа, повтори, какая у меня мечта.
«Кажется, что-то про мир во всём мире».
— Мир во всём мире.
— И пушки только в музеях.
— Это большая мечта, я понимаю.
— И очень жаль, что это мечта!
— В смысле? Чем плоха такая мечта?
— Да тем, что она — мечта! Тем, что рядом со мной сидит папа-военный! И каждый день, надев свой китель, мой папа напоминает людям, что есть военные и есть война. Вот если б папа сказал: я не хочу быть военным, быть военным — позорно, военные — убийцы, я бы стала на шаг ближе к мечте.
— Но я не убил никого.
— А может, лучше, чтоб убил? Тогда б понял всю заразу войны?
— Что ты такое говоришь, Тоня… — сказала Рая.
— Рая, не встревай, — сказал он.
— Из мальчиков в нашем классе только двое хотят служить в армии, — сказала Тоня. — Оба — лодыри и тупицы. Нахалы и хулиганы. Получается, армия состоит из лодырей и хулиганов. Из тех, кто плохо учился в школах. Больше такие разгильдяи нигде не нужны. Папа, ты тоже плохо учился в школе? И тебе писали замечания в дневнике? Ты не решал задачки, а списывал?
— Я часто думаю, Тоня: и в кого ты такая уродилась. — Опять Рая. Рая спасала его. А он улыбался. Может быть, его улыбка была глупой, ну так что. Тоня и считает его, наверное, глупым. Тупицей. И он улыбался шире, чувствуя, что выглядит уж вовсе глупым. Ему нравилось не то, что у дочери есть характер. Что она имеет мнение. Что она не молчит, как часто вынужден он молчать перед разными начальниками, непосредственными и прямыми. Что он всё ждёт той жизни, которая даст ему волю к победе, а она начинает побеждать уже в пятнадцать. В пятнадцать с половиной. Но мечта о мире во всём мире — ещё большая сказка, чем его надежда на то, что он, будучи военным, поднимет народ на правое дело — на какое-то неизвестное дело, когда-то в будущем. И он, и Тоня мечтают. Но он тайно, а она — явно. И он немного завидует ей. Вот. Всё стало на свои места. Он завидует. Ему сорок, а ей нет шестнадцати. К сорока он не дождался исполнения своей мечты (но разве она должна исполняться?), а ей до сорока ещё целая жизнь. Как тут не позавидуешь? Осуществись его мечта, скажем, завтра, — он бы перестал завидовать. И Тоня, его дочь, перестала бы критиковать его — во многом незаслуженно, потому как мало что она знает об офицерах и об армии, знает лишь тот, кто в армии служил, — а стала бы равняться на него и с восторгом рассказывать о нём в классе. И её бы с восторгом и слушали — и тоже бы на него равнялись.