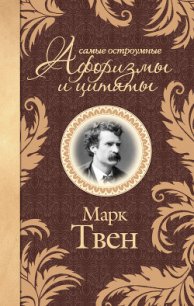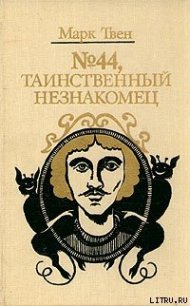Янки из Коннектикута при дворе короля Артура (с илл.) - Твен Марк (бесплатные серии книг txt) 📗
Приключение следовало за приключением. Однажды мы наткнулись на шествие. И какое! Казалось, тут собрались подонки со всего королевства, да к тому же все эти оборванцы были вдребезги пьяны. Впереди ехала телега, на которой стоял гроб, а на нем сидела миловидная женщина лет восемнадцати, кормившая грудью ребенка. Она то и дело прижимала его к себе и вытирала с его личика слезы, капавшие из ее глаз. А глупое дитя только счастливо улыбалось, цепляясь за материнскую грудь пухлой, в ямочках, ручонкой, и несчастная мать гладила и ласкала его.
Мужчины и женщины, мальчишки и девчонки, приплясывая, с гиканьем бежали возле телеги, богохульствуя и сквернословя, распевая непристойные песни, — это было отвратительное зрелище, настоящий праздник демонов. Мы достигли уже стен и предместий Лондона. Наш хозяин раздобыл нам хорошее местечко возле самой виселицы. Священник уже ждал здесь, он помог женщине взобраться на помост, говоря ей всякие слова утешения, и велел помощнику шерифа достать для нее табурет. Потом сам стал на эшафот возле нее, несколько мгновений глядел на плотную толпу у своих ног, на множество обращенных к нему лиц и начал рассказывать историю несчастной. И в голосе его зазвучала жалость… Как редко звучала жалость в этой дикой, невежественной стране! Я помню малейшую подробность в его рассказе, только не помню слов его и потому расскажу своими словами.
«Закон должен быть справедливым. Иногда он ошибается, но ничего не поделаешь. Мы можем только покоряться, сокрушаться и молиться за душу тех, кого неправильно покарал закон, и желать, чтобы таких было поменьше. Закон осудил на смерть это бедное юное создание — и закон прав. Но другой закон вынудил ее либо совершить преступление, либо умереть с голода вместе со своим ребенком — и такой закон отвечает перед богом и за ее преступление, и за ее позорную смерть!
Совсем еще недавно это юное создание, это восемнадцатилетнее дитя было счастливейшей в Англии женой и матерью. На устах ее всегда звенела песня, — песня, язык счастливых и невинных сердец! Юный супруг ее был так же счастлив, как и она. Выполняя свой долг, зарабатывая кусок хлеба, он честно трудился с утра до ночи, был опорой и защитой семьи и вносил свою лепту в благосостояние нации. Но коварный закон в одно мгновение разрушил этот священный очаг. Молодого супруга поймали, заклеймили и услали в море. Жена ничего об этом не знала. Она повсюду разыскивала его, трогая самые жестокие сердца своими мольбами, красноречиво говорившими об ее отчаянии. Тянулись недели, она разыскивала его, ждала, надеялась, но понемногу рассудок ее слабел от горя. Мало-помалу все ее небольшие сбережения были прожиты. Когда ей нечем стало платить за аренду, ее выгнали на улицу. Она просила милостыню, покуда у нее хватало сил. В конце концов у нее от голода пропало молоко, и тогда она украла кусок холста ценой в четверть цента, надеясь продать его и спасти свое дитя.
Но владелец холста поймал ее. Ее бросили в тюрьму и предали суду. Владелец под присягой подтвердил факт покражи. Ей дали защитника, и для смягчения приговора была рассказана ее грустная история. Она тоже получила слово и рассказала, как украла холст потому, что рассудок ее с горя помутился, и когда голод измучил ее, она перестала понимать, хорошо или дурно поступает, сознавая только одно — что ужасно хочет есть. Вначале все были растроганы и склонны проявить милосердие, видя, что она так молода и одинока, так достойна сожаления, что единственный виновник, который толкнул ее на преступление, был закон, лишивший ее опоры. Но тут возразил обвинитель, сказав, что хотя все это верно и весьма достойно сожаления, но за последнее время так участились мелкие кражи, что некстати проявленное милосердие послужило бы угрозой собственности, — о боже, неужели для британского закона разоренный домашний очаг, осиротевшие дети, разбитые сердца совсем не имеют никакой ценности и разве не нужно их охранять? — и потому он должен требовать наказания.
Когда судья надел свою черную шапочку и произнес роковые слова, владелец украденного холста поднялся, дрожа, с трясущимися губами, с лицом, посеревшим, словно пепел, и воскликнул:
— О бедное дитя, бедное дитя! Я не знал, что это грозит ей смертью! — и рухнул, как подрубленное дерево.
Когда его подняли, он лишился рассудка; и не успело зайти солнце, как он покончил с собой. Хороший человек… человек, у которого было настоящее сердце! Прибавьте его смерть к тому, что здесь происходит, и пусть за это несут ответственность те, кому следует, — правители и жестокие законы Британии.
— Настало время, дитя мое. Дай я помолюсь над тобой, — не за тебя, бедное униженное и невинное сердце, а за тех, кто виновен в твоей гибели и смерти, им нужнее моя молитва».
После молитвы на ее юную шейку накинули петлю, но им немало пришлось повозиться, чтобы завязать веревку, так как она все время прижимала ребенка к груди, к лицу, страстно целовала его и обливала слезами, все время не то рыдая, не то вскрикивая, а ребенок восторженно смеялся и дрыгал ножками, думая, что с ним играют. Даже палач не мог этого вынести и отвернулся. Когда все было готово, священник ласково, но настойчиво взял ребенка из рук матери и стал поспешно спускаться с помоста. Она всплеснула руками и с воплем бешено рванулась к нему, но веревка и помощник шерифа крепко держали ее. Тогда она упала на колени и, простирая руки, стала молить:
— Еще один поцелуй! О боже, еще один, еще один, это мольба умирающей!
Ей дали ребенка. Она чуть не задушила малютку. И когда ребенка снова отняли, она закричала:
— О мое дитя, мое ненаглядное дитя, оно умрет! У него нет ни дома, ни друзей, ни отца, ни матери!
— Все есть у него, — сказал добрый священник. — Я заменю ему всех, покуда жив.
Видели бы вы ее лицо в это мгновение! Благодарность? Нельзя словами описать его выражения. Слова — нарисованное пламя. Взор — пламя живое. Она бросила пламенный взор и унесла его с собой в сокровищницу небес, где и надлежит быть всему неземному.
36. Встреча во мраке
Лондон для раба был довольно любопытным городом. То есть не городом, а громадной деревней, полной соломы и грязи. Улицы были кривые, немощеные, грязные; население — вечно снующая толпа — и в лохмотьях, и в шелках, в колышущихся перьях, блестящих доспехах. В Лондоне у короля был дворец. Он издали заметил его, взглянул и слегка выругался — неопытно, по-ребячески, как ругались в шестом веке. Мы увидели знакомых рыцарей и вельмож, но нас, в синяках, лохмотьях и грязи, они не узнавали, — не узнали бы, если бы мы и окликнули их, не остановились бы, чтобы ответить нам, так как не имели права разговаривать с прикованными к цепи рабами.
В десяти ярдах от меня проехала Сэнди — возможно, разыскивая меня. Но окончательно убило меня то, что произошло на площади против нашего старого барака, — там заживо варили в масле фальшивомонетчика. И вдруг показался газетчик; и я не смел окликнуть его! Одно утешало меня: видимо, Кларенс жив и действует. Я твердо решил, что мы с ним скоро будем вместе, и эта мысль несказанно ободрила меня.
Очень ободрило меня и то, что я как-то заметил проволоку, натянутую между домами. Это, несомненно, был телеграф и телефон. Мне страстно захотелось получить кусочек такой проволоки. Она была необходима для осуществления моего плана бегства. План состоял в том, чтобы как-нибудь ночью освободить себя и короля, связать хозяина и, заткнув ему рот, перемениться с ним одеждой, избить его до неузнаваемости, приковать к цепи рабов, стать владельцем невольников, отправиться в Камелот и…
Но вы поняли мой план. Вы видите, какой потрясающий драматический сюрприз готовил я двору. Все это было бы осуществимо, достать бы только кусочек железной проволоки, из которой можно сделать отмычку, тогда я мог бы отпереть замки, которыми были скованы наши цепи. Но мне ужасно не везло — ни разу не попалось ни кусочка. И вдруг подвернулся удобный случай. Джентльмен, уже два раза приходивший торговать меня, но безуспешно, пришел опять. Я знал, что он не купит меня, так как мой хозяин с самого начала заломил за меня непомерную цену, вызывавшую негодование и насмешки, и упорно стоял на своем. Он хотел за меня двадцать два доллара и не уступал ни цента. Могучим сложением короля восхищались, но не покупали из-за его королевской осанки; такие рабы никому не нужны. Я был уверен, что не расстанусь с ним, так как за меня просили слишком дорого. Нет, я не рассчитывал, что мною завладеет джентльмен, о котором я упоминал, а интересовал он меня вот почему: у него было нечто, чем я решил завладеть, если он будет часто наведываться к нам, — длинная стальная булавка, которой он скалывал спереди свой суконный плащ. Таких булавок у него было три. Два раза у меня все срывалось, так как он недостаточно близко подходил ко мне. Но раз мне повезло: я вытащил у него самую нижнюю, а он, заметив пропажу, наверно решил, что потерял булавку по дороге.