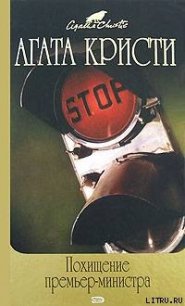Эпилог (СИ) - Хол Блэки (читать полную версию книги TXT) 📗
— А Родниковое и Русалочий? — влезаю я.
— В Русалочьем много гончаров и ткачей, а в Родниковом — плотников и столяров. Еще там разводят овец и варят соль.
Дюже впечатляет. Профессии разные нужны, профессии разные важны. Слушаю Тёму и поражаюсь дальновидности самого старшего Мелёшина, рекомендовавшего изучить соответствующую литературу. Интересно, как там Кот? Не скучает ли по нам?
— Считай, в каждом округе проживает три тысячи человек, а то и больше, — продолжает Тёма ликбез. — И все хотят есть, пить и не мерзнуть. В общем, жить хотят, — говорит с усмешкой.
Перед Магнитной дорога становится оживленнее. Попадаются велосипедисты и те, кто едет верхом, в седле. Тёма жмет на клаксон, приветствуя знакомых.
Магнитная обустроилась в равнине меж гор, образовавших глубокую чашу. Мы подъезжаем вечером, после семи, когда солнце спряталось за макушкой горы. Надо же, "Каппа" больше половины суток в пути. Машина съезжает с взгорка. Отсюда видны дымки, поднимающиеся над Магнитной. Для уставших работяг топят бани.
— Придется проехать через центр, — предупреждает Тёма.
Я цепляюсь за Егора, а сердце колотится часто-часто. Здесь живет моя мама!
В Магнитной много каменных домов, но попадаются и деревянные. Как и в Березянке, тут держат скотину — коз, коров. Местные едут или идут — непонятно, кто и куда. "Каппу" провожают взглядами. Ну да, автотранспорт — редкость на побережье.
Здесь тоже есть центральная площадь и двухэтажное здание, отмеченное зелёно-оранжевым национальным флагом. Это Совет. Возле крыльца стоят два внедорожника на мощных колесах, но водителей и пассажиров поблизости нет.
Выискиваю среди зданий школу и не нахожу. "Каппа" едет дальше. По правую сторону такое же глухое здание, как и в Березянке. Теперь я знаю, что это запасник. Здесь складируют и хранят всё, что привозят в Магнитную со стороны и изготавливают для отправки в другие округа.
Едем дальше, и я верчу головой по сторонам. Магнитная заканчивается, и накатанная дорога становится плоше. "Каппа" продолжает путь, чтобы через десять минут добраться до поселения гораздо меньшего, чем центр округа. И снова мотор урчит, а машина провозит мимо. Кажется, мы вот-вот остановимся… Возле этого дома или рядом с соседним… Или около следующей избы?… Но Тёма везет дальше. Позади остался последний дом, и снова по обе стороны дороги — ели, сосны и кустарник. Путь заметно хуже: зарос травой и в колдобинах. Наконец, машина не выдерживает многочасового насилия, и мотор глохнет, рявкнув. Приехали.
— Проклятье! — бьет Тёма по рулю. — Ну, давай же, заводись…
Неподалеку видны двухскатные крыши… Реденький забор… Горы, зажимающие с двух сторон небольшое селение. Рядом с природными исполинами домики кажутся букашками, а люди — и того меньше.
Тема выходит из автомобиля и поднимает капот. Оттуда валит дым.
— Фу-у, — отмахивается парень, разгоняя серые клубы.
Егор тоже выбирается и заглядывает во внутренности машины.
Я вылезаю и нетерпеливо переминаюсь:
— Долго еще ехать?
— Почти на месте, — отвечает Тёма. — Вот собака ливерная! Приспичило же накрыться медным тазом в двух шагах.
Оглядываюсь. Мне чудится одинокая фигура на окраине. Щурюсь, всматриваясь. Черт, без линз зрение совсем никудышное.
Делаю шаг, второй. Нет, это не я иду. Меня ведут ноги.
Верю и не верю. Замираю, а стук сердца отдается барабанами в висках.
Иду, а может, бегу. Запинаюсь, но не падаю. И снова бегу.
— Эва! — окликает муж.
Разве ж я слышу? Я тороплюсь вперед, туда, где меня ждут. Где меня ждали долгих двадцать лет.
Останавливаюсь в нерешительности. Нет, сердце не может обознаться. Оно гонит вперед. К той, что стоит у обочины, судорожно теребя ворот кофты. К той, кто глотает рыдания, закрыв рот дрожащей рукой. И правда, к чему плакать? Если только от радости.
И мои щеки мокры от слез.
Еще полшага… Секунды, превратившиеся в вечность.
Подхожу совсем близко, и смелость испаряется.
Я в одном шаге. Я — её отражение. Я — мамина дочка…
И падаю, падаю в любящие объятия.
Я нашла свой дом. Он в моем сердце.
— Эвочка… Эвочка… — шепчут мне, плача, и целуют — в щеки, в глаза, в лоб, в нос. Потому что нет сил, чтобы говорить. Потому что голос истаял от слез и безнадежного ожидания. — Доченька моя… Эвочка…
И я обнимаю. Прижимаюсь крепко-крепко. И тоже плачу.
Моя мама.
Я нашла тебя. Я смогла. Сумела. Добралась.
45
И мы плакали, плакали. От счастья. Наплакали, наверное, целую кадушку. И не разнимали рук, потому что думали: всё это сон. Стоит отвернуться, и сказка исчезнет. Прошло немало времени, прежде чем я осознала: мама рядом со мной, она материальна и не собирается таять и испаряться. И Магнитная реальна, и хуторок, и бревенчатый домик, и звонкая речушка Журчава.
— Какая ж ты стала большенькая. — Мама гладила меня по голове, утирая слезу. — Красавица. Невеста уже. Ой, что ж я говорю?
Когда я представила Егора в качестве своего мужа, она засуетилась.
— Конечно, конечно… Очень рада знакомству. У нас тут не ахти, но жить можно. Не судите строго.
Мама боялась, что Егор, вкусив "прелести" жизни в глуши, сбежит с Магнитной, прихватив меня, и не даст наглядеться на родную кровиночку. К Егору она обращалась на "вы", а он называл маму Илией Камиловной, отчего она поначалу вздрагивала и испуганно поглядывала на меня. Наверное, она не пользовалась настоящим отчеством, избегая чужого внимания. Чтобы успокоить маму, я поведала о знакомстве со своей родословной, но об ангельском проклятии и о синдроме решила умолчать. Рассказала и о самом старшем Мелёшине, который знавал Камила Ар Тэгурни, и о том, что благодаря Константину Дмитриевичу мои домыслы о побережье перестали быть домыслами, а мечта обрела реальность. И закончила рассказ тем, что горжусь своим дедом и считаю себя неотъемлемой частью здешних мест. А мама выслушав, заплакала.
Теперь моя мама — тёща, а Егор — зять ей. Я хихикнула. Зять нисколько не стеснялся, чувствуя себя в своей тарелке, а мама испытывала неловкость — за неустроенность быта, за отсутствие комфорта, к которому мы привыкли на Большой земле, за скудность и простоту рациона.
Несмотря на мамино смущение, её не удивил факт моего замужества. Позже я поняла, почему.
— Какая ж ты худосочненькая, — всплескивала она руками. — Ни мяска, ни жирка. Косточки выпирают.
— Это я-то худосочненькая? — возмущалась я притворно. — Да я вешу почти центнер. Слониха! Зато ты худенькая, совсем голодом заморилась.
— Да что я? Обо мне не думай, — отмахивалась мама, порываясь всплакнуть, и я ревела вместе с ней. Но то были счастливые слезы.
Мама и вправду выглядела усталой. Мне казалось, она не ела, а клевала как птичка. Отсутствие аппетита мама объяснила просто. Ожиданием. Еще в начале лета в Магнитную вместе с регулярной корреспонденцией пришло извещение о скором приезде вис-специалиста с Большой земли. Мелёшин Егор Артёмович собирался прибыть в таежную глухомань с супругой. А коли супруга оказалась дочкой всеми уважаемой учительницы Илии Папены, то сам голова Магнитной решил посодействовать с доставкой гостей, выделив транспорт и зарезервировав бензин в Березянке с последующим возмещением расхода. Время шло, специалист не ехал, а мама поседела от переживаний. Наверное, случилось что-то страшное и непоправимое, иначе какие могут быть причины для задержки?
Но теперь-то оснований для тревоги нет. Мы добрались до Магнитной, и всё будет хорошо, — успокоила я, и мы опять залились слезами, осознав сей факт.
Мама достала из подпола простенькую шкатулку, завернутую в рогожку, и извлекла бережно хранимые номера газет. В одной из них сообщалось, что дочь министра экономики пришла в сознание после покушения и стремительно идет на поправку, а в другой газете, более чем полугодовой давности, были помещены наши с Егором фотографии и краткая заметка о предстоящем бракосочетании. Газетные страницы, несмотря на недолгое существование, выглядели замусоленными и измочаленными. Я вспомнила, что дед Егора говорил о контрабанде прессы на побережье. Должно быть, газеты как источник информации и как средство связи с внешним миром передавали из дома в дом, от человека к человеку, прежде чем они попали к маме.