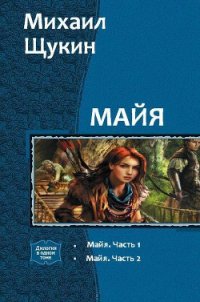Создатель. Жизнь и приключения Антона Носика, отца Рунета, трикстера, блогера и первопроходца, с опи - Визель Михаил
Порой эта неприязнь принимала гипертрофированные формы. В октябре 2001 года, будучи, в качестве топ-менеджера «Рамблера», приглашённым на конференцию в МГИМО, он чувствует острый диссонанс:
Первый раз в жизни посетил сегодня МГИМО.
В этом заведении, для которого я в мои собственные студенческие дни не подходил ни рожей, ни пятым пунктом, ни социальным происхождением, я чувствовал себя примерно как революционный крестьянин с винтовкой, развалившийся в кресле под Рембрандтом после взятия Зимнего.
Поскольку я там был на спецмероприятии, то устроители отвели меня в VIP-зал. Тут уж я почувствовал себя как всё тот же крестьянин, но уже добравшийся до царской опочивальни. Смешно. Я думал, что за столько лет классовое чувство забылось. А нифига. [27]
Казалось бы: какое отношение 35-летний интернетчик имеет к «крестьянину с винтовкой»? Но привыкший к чёткости формулировок Антон выразил свои ощущения именно так.
Олег Радзинский, сын Эдварда Радзинского, то есть такой же «сыпис», впоследствии – диссидент и удачливый инвестбанкир, с которым Носику придётся столкнуться в иной реальности, в начале двухтысячных. Его трудно заподозрить как в ностальгии по советской власти, так и в выгораживании современной московской богемы. Но в своих вышедших в 2018 году мемуарах «Случайные жизни» он тоже признаёт:
Советская власть, как никакая другая, ценила творческую интеллигенцию. <…> Творческой интеллигенции выпала задача создать симулякр советской жизни в словах, картинах, скульптуре, музыке и кино. <…> Между властью и творческой интеллигенцией существовал социальный контракт: мы дадим вам дополнительные блага и даже позволим определённые творческие вольности, а вы оставайтесь лояльны. Или по крайней мере нейтральны. Этот контракт действовал до конца советской жизни и умер, став ненужным.
Нынешней российской власти не нужна идеологическая обслуга, поскольку у неё нет идеологии. Она никого не боится и не собирается ни перед кем отчитываться. Её социальный контракт – не с интеллигенцией, а с олигархами: оставайтесь лояльны или нейтральны, и вам позволят вести вашу олигархическую жизнь. Или не позволят. [28]
Но вернёмся к рассказу Пепперштейна:
Несколько пространств очень важны для нашего детства, нашего формирования. Прежде всего это, конечно, мастерская Кабакова на Сретенском бульваре – роскошный чердак, на котором мы очень много времени провели и в детстве, и потом. Однажды мы там стали клеить огромный замок, он разрастался: какие-то сооружения, микросолдаты… Но в какой-то момент это так задолбало Илью, что, я помню трагический миг, Илья сжёг наш замок в камине. <…>
Потом очень важным моментом для нашей общей жизни стало строительство корпоративного дома от Союза художников на Речном вокзале. В 76-м году мы все заселились в этот дом. Ещё там жили наши друзья-художники Гороховский, Чуйков [29], ещё целый ряд художников. Соответственно, образовалась компания взрослых, которые собирались в формате every evening, ну и компания детей, наша детская шайка, мы постоянно там тусовались.
Конечно, уже упомянутые дома творчества: Коктебель, Челюскинская, Синеж.
Затем – нас объединяла Прага, потому что после 1980 года, когда мой отец переселился в Прагу, я жил на два города. И Вика с Антоном тоже постоянно приезжали в Прагу, потому что там жила Викина старшая сестра Нина, она была в своё время замужем за Тыпольтом, одним из министров правительства при Дубчеке во время Пражской весны.
Все взрослые разделялись на «антонофилов» и «антонофобов», потому что он не терпел равнодушного отношения к себе или чтобы его не замечали. Умел приковать к себе внимание с самого детства. <…> Антон очень любил спорить, любил занять какую-нибудь очень уязвимую точку зрения – и с невероятным шквалом аргументации её отстаивать. Его влекла эта стихия бесконечного спора. И ему нравилось спорить – со взрослыми. В детской среде «антонофобов» не было, всем он очень нравился, а вот среди взрослых были люди, которые Антона на дух не переносили.
– А в вашей «шайке» были девочки?
Половина мальчиков, половина девочек, и, конечно, атмосфера нашей детской шайки была довольно порнографическая. Все были очень озабоченные. Как только взрослые исчезали с радаров, начинался бесконечный порнографический дискурс… И чем старше мы становились, тем более сексуализированные формы это принимало.
Закончить главу о формировании характера Антона Носика необходимо там же, где она началась, – в Коктебеле. Потому что именно там произошло знакомство с Ильёй Медковым, оказавшее колоссальное воздействие на всю его дальнейшую жизнь. Вот как описывает это Пепперштейн:
Летом 87-го я приехал на каникулы из Праги, и было уже заранее решено, что мы встречаемся и едем в Коктебель. Мы собрались в квартире у жены Антона Наташи Зак, и среди прочих людей там сидело какое-то существо. Сначала мне показалось, что это очень уродливая еврейская девочка. Потом я понял, что это вовсе не еврейская девочка, а еврейский мальчик, причём в качестве мальчика – вовсе не уродливый. Это и был Илюша Медков. И мы прямо в поезде, едущем в Коктебель, очень подружились. Он, как и Герман Борисович Зеленин, сыграл очень важную роль в нашей с Антоном жизни. Человек он был очень необычный, это был человек фантасмагорический, с гигантскими фантазиями.
И в Коктебеле я наблюдал невероятную дружбу. Для Антона это было характерно, он вообще был человек очень увлекающийся. Его дружбы напоминали влюблённости: очень страстные, с погружениями. И тогда был пик такой дружеской влюблённости у них с Ильёй. А поскольку никаких гейских наклонностей у них не было, а либидо надо было как-то реализовать, то реализовывалось это в виде совместной охоты за девушками. <…> Атмосфера в Коктебеле была такая, что в принципе никакой охоты не требовалось: и так всё пространство было заполнено девушками, настроенными на любовь. Для них это был дружеский ритуал – и возвращались они всегда в компании с девушками.
При этом Илья был невероятным мастером выдумывания грандиозных шалостей. Конечно, мы не осуществляли эти шалости, в основном мы их обсуждали. Среди прочего мы составили невероятный текст – план захвата власти в СССР. В этом плане очень подробно описывалось, во-первых, как мы захватим власть в СССР, во-вторых, что мы будем делать как властители. Ясное дело, это был очень деспотический режим, с невероятными грандиозными планами.
К планам Медкова мы вернёмся чуть позже, а пока зададим Пепперштейну фундаментальный вопрос: было ли детство Носика счастливым – в том смысле, который в это слово вкладывал сам Пепперштейн, когда говорил в интервью «Art&Houses» в январе 2017 года:
Успешными становятся как раз те, у кого детство было довольно трудным. И эта энергия преодоления изначальных травм создаёт успешного человека. А те, со счастливым детством, как правило, терпят дикое потрясение от жестокости реального мира. [30]
Или всё-таки права была партнёрша Антона по соучреждению благотворительного фонда «Pomogi.org» Сарра Нежельская, уверявшая, что
…у него внутри была какая-то даже не печаль, а именно что раненность. Возможно, я плохо знаю все обстоятельства – и что-то было в его судьбе трагическое, а возможно, он просто слишком много всего видел в своей жизни. [31]
Павел задумался, а потом ответил мне так:
Несмотря на то, что детство мы провели вместе, относились мы к нему по-разному. Я его воспринимал как счастливое. Но нельзя сказать, что так же его воспринимал Антон. По каким-то причинам оно его тяготило, и он поскорее хотел из него выбраться. Примерно так же, как я хотел как можно дольше в нём остаться. Он был ребёнком, который очень много энергии тратил на то, чтобы создать себе образ взрослого. К этому относятся и его бесконечные полемики, и то, что говорил он подчёркнуто на очень взрослом языке.
И возвращаясь к дикой дружбе между Антоном и Ильёй Медковым… У них доходило до того, что они ритуально обменивались одеждой, и даже обменялись именами: Антон называл его Антоном Борисовичем, а Илья его – Ильёй Алексеевичем. Очень глубокой травмой стало для Антона убийство Медкова – практически как символическая смерть его самого.
…Он тоже очень сильно охуел от жизни, и пока нас держала на плаву какая-то такая молодая игривость, всё это воспринималось более-менее, но как только мы стали постарше, мы стали ужасно охуевшими, травмированными, внутренне очень перепуганными. Внешне это может выражаться по-разному – в [напускной] уверенности, браваде, но всё равно присутствует эта внутренняя перепуганность: куда же мы всё-таки попали?..