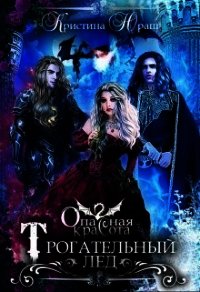Опасная красота. Поцелуи Иуды (СИ) - Аваланж Матильда (серия книг .TXT) 📗
Крупные, яркие, четкие, глянцевые — хоть сейчас публикуй в каком-нибудь эротическом журнале…
Бесконечно буду видеть, как леденеют его обожаемые синие глаза, пару мгновений до этого смотрящие на меня с такой любовью и теплотой, не в силах и слова сказать в свое оправданье, потому что рот мой будет заклеен тягучим, липким пластырем.
Впрочем, кого я обманываю?
Мой личный ад уже был здесь — одиночная келья монастырской тюрьмы, в которой, я, поджав колени, долгие две недели разбирательств моего дела практически без движения сидела на жесткой койке, невидящим взглядом вперившись в стену…
И прокручивала, прокручивала, прокручивала, как Коул открывает конверт, в своей голове снова и снова погружаясь в ледяное озеро девятого круга преисподней, предназначенное для предателей.
Я жалела, сто, пятьсот, тысячу раз жалела, что не рассказала ему все, как есть, в ту ночь, когда шел дождь, и я приехала к нему после Игнацио Касимиро за помощью и защитой.
Узнай Коул об этом от меня самой, у меня был хоть какой-то шанс, что он, если не простит мою связь с Троем, то хотя бы поймет.
Поймет, что я была растеряна, и не знала, что мне делать дальше. Что попалась в лапы Троя, как глупая зайка в силки.
Теперь я на веки вечные останусь для него Иудой.
И даже если попытаюсь заикнуться о изощренном плане Кастора Троя, и о том, что в главном я его не предала, для Его Высокопреосвященства, кардинала Коула Тернера, мне отныне не будет никакой веры.
Я должна попытаться рассказать ему о том, что Трой готовит для него ловушку, но я просто не представляю, как это сделать…
Потому что за эти две недели я видела Коула от силы раза два или три. Мое дело вел каноник Паган, который с видимым удовольствием требовал красочных рассказов в самых мельчайших деталях. Меня осматривали психолог и гинеколог, последний из которых составил подробнейшее заключение, которое, разумеется, тоже приложили к делу.
Я, честно, не знаю, зачем Фелиции потребовалось науськивать своего чудо-детектива на меня, а не на Итана Энглера — хоть ее предательство и стало для меня шоком, это притупилось на фоне того, что я чувствовала от своей измены.
Но зато я точно знала одно — Кастор Трой выйдет из всего этого, как сухим из воды, и у нравственников не возникнет абсолютно никаких претензий к его моральному облику.
Так оно и случилось — в моем деле Трой проходил свидетелем и охотно делился с каноником Паганом всеми оттенками своих ощущений во время нашего с ним секса. В такие моменты каноник начинал тяжело дышать и краснел, а Трою, видимо, доставляло удовольствие доводить нравственника все более и более горячими подробностями.
А я, вперившись взглядом в подол синей холщовой юбки, которая наряду с серой рубашкой была униформой моральных преступниц, содержавшихся в монастыре, думала только о том, что Коул все это прочтет. И пусть мне хотелось биться в истерике, захлебываясь слезами, внешне я оставалась спокойна.
Не хотелось доставлять Кастору Трою такого удовольствия. Он бы порадовался, я знаю.
Нравственники даже предоставили мне какого-то адвоката, который, кажется, скорее старался для того, чтобы меня признали виновной, нежели, чтобы оправдали. Впрочем, пожалуй, судя по его глубоко безразличному виду, ему было абсолютно и бесповоротно наплевать, что со мной будет.
Однако в первые дни он все-таки посоветовал написать самому комиссару Шенку с просьбой дать мне положительную характеристику и взять на поруки, что я и сделала.
По нашему законодательству, когда влиятельный вампир заступался за преступника человеческой крови и брал под свое покровительство, это могло полностью решить исход дела, даже самого безнадежного.
Ответ пришел на следующий же день, и был он очень сухим и кратким, причем писал даже не сам Шенк, а его секретарь, Амалия: «Комиссар не считает возможным удовлетворить ваше прошение».
В келье было очень холодно, и этот холод стал моим постоянным спутником. Я привыкла к тому, что у меня постоянно ледяные руки, к тому, что мне все время хочется накинуть на себя что-то, укутаться, и хотя бы на чуть-чуть ощутить себя согревшейся и успокоенной.
Но привыкнуть к осознанию того, что мне теперь придется как-то жить с этим гнетущим чувством вины я не могла. Так же, как не могла привыкнуть к бесконечно тянущимся дням, наполненным тяжелыми думами и ничегонеделаньем.
Пусть бы лучше меня уже осудили, наказали и отправили в Поселение — по крайней мере, жизнь там хотя бы отдаленно напоминала обычную, и была занята разного рода работой и какими-то повседневными делами.
Что угодно — только не эта мрачная промозглая келья и молчаливая сестра Юстасия, которая приходила, ставила передо мной миску с каким-нибудь отвратительным варевом, ждала, пока я поем, и уходила.
Про этом она смотрела на меня с таким презрением и ненавистью, будто я являлась, по меньшей мере, исчадьем ада — под подобным взглядом хотелось начать мылом веревку смазывать, а не то, что пищу принимать.
Я пыталась с ней заговорить, просто потому, что мне хотелось услышать хотя бы чей-то голос, но в ответ было лишь одно — молчание.
Молчание. Одиночество. Предательство. Вина.
Четыре зверя, которые безжалостно глодали меня все эти дни и ночи напролет.
В ночь перед Синодом я наконец-то, впервые за долгое время смогла уснуть спокойно и легко — без слез и раздирающих душу и сердце кошмаров.
Мне снилось бескрайнее пшеничное поле под голубым небом. Колосья с яркими вкраплениями синих васильков легко покачивались на ветру, как будто по золотистому морю шла рябь. Сон был размытым и светлым, в легких пастельных тонах.
Я провела ладонью по длинным жестким усикам колосков, ощущая их, как будто наяву. Как будто чувствуя кожей прохладный лен моего светлого сарафана, вдыхая запах поля и дождя…
— Мама! — вдруг послышался звонкий голосок, и мое сердце замерло, готовое выпрыгнуть из груди.
Мальчик со светлыми волосами и маленькая девочка с темными кудряшками, державшиеся за руки, обернулись ко мне посреди пшеничного поля.
У них были его глаза — синие, как васильки, и я проснулась, чувствуя, как по вискам катятся слезы.
Наши сын и дочь, которым теперь не суждено родиться — они были такими красивыми…
Пшеничное поле стояло перед моими глазами, когда сестра Юстасия вела меня узкому полутемному коридору. Поверх рубахи и юбки на меня надели белый жилет с черным крестом с правой стороны груди, а запястья и щиколотки сковали металлическими браслетами, соединенными тонкой цепочкой — за нее Юстасия меня и вела, как будто я и впрямь была какой-то злостной преступницей или животным, предназначенным на убой.
Когда тяжелые двери Святейшего Синода распахнулись передо мной, в моей голове на мгновение вспыхнула ассоциация с другим вечером, когда я, в корсете, чулках и малиновой жилетке вошла в конференц-зал полицейского управления…
А в следующее мгновение я ступила в большой полукруглый наос, окруженный галереей по второму этажу — он был полон народу, который при моем появлении заволновался, но я никак не могла разобрать, что они говорят.
— Шлюха! — раздался внезапно над всеми голосами громкий крик какого-то мужчины в кепке, и брошенное им тухлое яйцо разбилось у самых моих ног.
Боже, а адвокат предупреждал меня, что судилище будет открытым, но я не обратила на это внимания…
Ведь я безразлично отложила от себя принесенные им газеты, первые полосы которых пестрели моими фотографиями и разнообразными заголовками, вроде: «Девушка, работающая в нравственной полиции, задержана по обвинению в проституции!», «Вавилонская блудница на службе нравственников?», «Какое наказание ждет куртизанку с лицом ангела?».
Газетчики прямо-таки со сладострастным удовольствием взялись за мою историю — кажется, она даже затмила уже всем поднадоевшего маньяка, который в последнее время не особо радовал темами для пересудов — как будто затаился.
Благо, что появилась я…