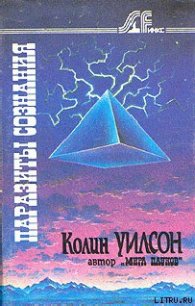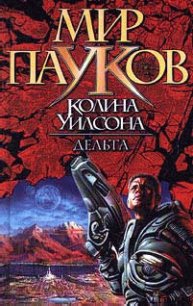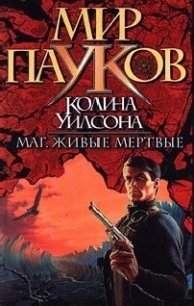Метаморфозы вампиров - Уилсон Колин Генри (читать полную версию книги .txt) 📗
— Насчет мытья, например, хотя с этим полегче…
Сзади на лестнице кто-то осторожно кашлянул. Мэдах — стоит переминается, неловко так.
— Уж вы, прошу, извините меня, что заставил ждать. Я как-то забыл, что мне письмо надо было продиктовать, важное. Ну что, идем? Карлсен заметил, что корешки волос над самым лбом у него влажны, видимо, мылся.
Людей на улице прибавилось, причем, в основном, голых. Небо казалось ярче, как будто вышло солнце (хотя так и не понятно, где здесь вообще источник света). Карлсена в очередной раз удивляла веселость толпы — лица такие счастливые, что на Земле из них половину сочли бы за подвыпивших. Тем не менее, побыв несколько минут под солнцем, он уяснил причину этой веселости: вся улица оживлялась сексуальным возбуждением. Трепетало оно и в его собственном теле, наполняя пах светозарным, медово-сладостным теплом, отчего укромное место начало набухать. То же самое явно происходило и со многими другими, только у большинства мужчин была полная эрекция (это ж надо: идут, даже разговаривают, а она все равно держится). В очередной раз бросалась в глаза (как тогда у первого встречного в этом городе) необычная величина их пенисов с ярко-красной головкой. Причем теперь видно, что косметика здесь ни при чем: цвет естественный. У многих женщин лица цвели улыбкой мечтательного предвкушения.
И опять изумляла красота их тел. Кое-кто из женщин (в основном, средних лет) был немного полноват, но сложения, все равно, безупречного. Совсем рядом прошла высокая стройняшка с небольшими округлыми ягодицами, мелькнули заостренные грудки со светлыми сосками. Самые молоденькие — подростки еще, с неоформившейся толком грудью — шли пока в трусиках (чувствуется, из-за некоторой робости). Пользуясь возможностью глядеть во все глаза (благо невидимый), Карлсен отмечал, что на кого из идущих ни бросишь взгляд (включая детей), тело каждого поражает своей скульптурностью. Прямо парад нудистов, да и только.
Свернув на улицу, ведущую к Солярию, он обнаружил перемену цвета. Радужность исчезла, сменившись характерно зеленым, как Саграйя. Даже дымчатая взвихренность пригрезилась за кристаллической поверхностью храма. Уходя в самое небо (шпиль терялся в высоте), смотрелась громада на редкость внушительно. Явно росла и тяжелая сладость в паху, мелькнуло сравнение с осенними деревьями, гнущимися под тяжестью спелых плодов. Только выйдя на главную площадь, Карлсен уяснил сам размер Солярия. По форме он представлял собой овал, в основании длиной, по меньшей мере, полмили. Восходящие к основанию ступени, и те заканчивались вровень с крышами окружающих зданий. Кристалл храма по частоте подобен был воде, и, несмотря на солидную толщину стен, с внутренней стороны совершенно не давал искажения. Стиль, по земным стандартам, можно было назвать готическим, с тем лишь отличием, что башни и опоры были округлыми. Особенно грандиозно смотрелся огромный шпиль: выше любого готического собора, острие, словно пронзает небесный свод. Бока у храма были чуть вогнуты, а круглый плоский парапет вокруг основания придавал ему сходство с невероятной ведьмачьей шляпой.
Следом за Аристидом Карлсен стал подниматься по ступеням, статная фигура монаха защищала его от столкновений со встречными. Если кто иногда и задевал, то с рассеянным видом извинялся, не замечая в предвкушении, что рядом никого нет. Куда делся Крайски, Карлсен понятия не имел. Широкая, из зеленоватого кристалла площадь, между верхней ступенью и входом замечательно просвечивала, так что смотреть вниз было все равно, что глядеться в чистую морскую воду. Здесь паломники, сняв сандали, аккуратно составили их в рядок, сверху аккуратно сложив одежду. Наравне со всеми процедуру проделал и Мэдах, обнажив широкую грудь, поросшую рыжеватым волосом. Несмотря на крупную комплекцию, сложен он был безупречно. Что удивительно, пол внутри Солярия (Карлсен про себя так и называл его «собором») был не из мрамора и не из кристалла, а просто ковер из розовой травы, умело ухоженный, как площадка для гольфа, и пахнущий свежеподстриженным газоном. По странно упругой этой траве босые ступни паломников ступали совершенно бесшумно. От входа внутреннее пространство казалось необъятным — где-то в сотню раз больше любого земного собора. Колонны, каждая футов тридцать диаметром, напоминали о гигантских красных секвойях в калифорнийском Национальном парке.
Мэдах, повернувшись, каменно взял его за руку и утянул за одну из громадин-опор, так что людской поток струился по обе стороны, не задевая. — Если желаете, можно обменяться телами.
Этого Карлсен ожидал меньше всего. Непонятно почему мысль об обмене телами с посторонним вызвала замешательство. Хотя колебаться сечас было явно не время.
— А чего. Только вы уверены?…
Аристид, не размениваясь на слова, завел его в высокую, глубокую нишу в основании колонны. По какой-то причине стены изнутри теряли прозрачность, становясь черными, как антрацит.
Мэдах шагнул следом, приперев своим чугунным корпусом Карлсена к стене. Чувствуя по-прежнему неловкость и замкнутость в себе, Карлсен без особого энтузиазма изготовился к какого-нибудь сексуальному возбуждению, как тогда со снаму. Чувстовался лишь легкий дискомфорт от тесноты и льдисто-холодного кристалла, давящего спину. Секунда, и он резко втянул воздух от невыразимого наслаждения. Ощущение такое, будто внутренности растворились. Совершенно неожиданно монах исчез, а взгляд Карлсена уперся в стену ниши. Прошло несколько секунд, прежде чем дошло, что между ним и стеной утиснута фигура — причем не чья-нибудь, а его самого. Он смотрел сверху вниз на собственную макушку, хотя если точнее, принадлежала она сейчас Аристиду Мэдаху. Он поспешно отодвинулся. «Благодарю», — сдавленно произнесла фигура голосом Ричарда Карлсена, непонятно зачем.
И тут он впервые в жизни ощутил себя полностью, стопроцентно живым. Тело дышало ощущением ровной мощи, какое на Земле возникает разве что в моменты сексуального оргазма. От восторга ощущение бодрствования поднялось до точки, откуда обычное сознание видится эдаким неизбывным состоянием легкой утомленности.
Ричард Карлсен, на удивление, улыбался.
— Ну что, теперь я доберусь вон до той часовни, — он указал туда, где в отдалении виднелось какое-то подобие алтаря, — и помедитирую. Когда надо будет, пройдете и меня отыщете.
— Как ощущение? — раздался вдруг голос Крайски. Он стоял как раз позади Карлсена, саркастически улыбаясь. А с телом у него происходило что-то странное: зыбкое какое-то, бесплотное. Карлсен спохватился было, что это что-нибудь со зрением: переливчато зыбится, как мираж.
— Сейчас я вас покидаю, — произнесло его собственное тело. — Приятных вам ощущений. — Осмотрительно поглядывая по сторонам, оно стало удаляться в направлении алтаря.
— Ну что, — подал голос Крайски, — почему б нам не пойти полюбоваться? Карлсен на эти слова и внимания толком не обратил. Чувство полной удовлетворенности поглощало его целиком. Как будто вся прежняя жизнь была каким-то сном, от которого, наконец, очнулся. Ощущение самой живости интриговало. Вспомнились юношеская пылкость, места, где любил бывать, дни, полные счастья. Над всем этим царило колоссальное радушие, жизненная щедрость, подобная добродушному смеху. Сейчас впору было даже обнять Крайски, из любви и одновременно жалеючи.
Двигаясь в притихшей толпе, он четко понимал, чего стремились достичь эвату. Это твердое компактное тело могло удерживать жизненную энергию, не давая ей уйти наружу. Все люди (теперь это сознавалось отчетливо) протекают: половина их энергии рассасывается в окружающем воздухе. Все это просто потому, что тела у них чересчур слабы, чтобы удерживать поле жизненной энергии. Все равно, что пытаться лить воду в треснувшую кружку. Если сравнивать, то тело Аристида жестко контролировало все свои жизненные силы. В результате — откровение, внезапный проблеск насчет того, что все люди должны собой представлять.
Озадачивало одно: зачем Мэдах сам предложил обменяться телами? Чего ему вообще может быть надо от этого слабого, недужного и неэффективного мешка костей? Карлсен хотя и занимал сейчас тело монаха, доступа к его мыслям и воспоминаниям у него не было. Оставалось лишь предполагать, что обмен этот — исключительно по доброте душевной.