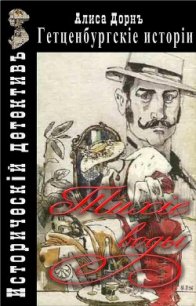Над бурей поднятый маяк (СИ) - Флетчер Бомонт (читать хорошую книгу txt) 📗
— Не помню.
— Ой, бедненький, — запричитали Кэт и Мэри, обхаживая Шекспира со всех сторон, то подливая вина, то обнимая за плечи. Одна Белла предпочла быть с Кемпом, за что он был ей благодарен и решил, что утром доплатит. А Шейксхрен пусть расплачивается с теми двумя, если захочет. Не хватало ему еще девиц снимать. Ответ его, однако, сбивал с толку: умом он, что ли тронулся, не знает, как шел?
— Как это? Ты что, не помнишь, как ко мне пришел? Чего тебя на улицу понесло среди ночи?
Шекспир разом осушил кружку и впервые посмотрел прямо на Кемпа — все тем же, правда, пустым и безразличным взглядом.
— Все кончено, Кемп, если ты понимаешь, о чем… А я только, я сегодня только… — он вдруг улыбнулся — криво и болезненно, — и эта улыбка напугала Кемпа больше, чем все остальное.
***
Холод уходил из тела Уилла, а пустота — нет. Наоборот, чем теплее ему становилось, тем большая открывалась бездна, и заглядывать туда, внутрь, где вместо привычного, живого и звонкого лежала выжженная пустыня, было страшно. Пустота, разверзшаяся внутри, смеялась над ним.
Он был Орфеем, а стал — дрожащим от холода червяком. Он любил больше жизни, а расстался из-за сорока фунтов и косого взгляда Гарри Саутгемптона. Он хотел умереть — и послушно расстегивал крючки дублета под остро наточенным лезвием у горла.
Уилл хватался за кружку, как будто только она одна еще могла удержать его на этом свете, был благодарен темноволосой девушке, чье имя он так и не спросил, что обнимала его и прижималась губами к горящей щеке, был благодарен светленькой, что подливала вина и его не трогала. Он, пожалуй, не пережил бы, коснись его сейчас хоть кто-то, отдаленно похожий на…
Думать он себе запретил, а говорить — нет. А горячее вино, сдобренное пряностями, развязывало язык.
— Я, Кемп, я ведь думал, что это на всю жизнь, мне ведь ничего и никого другого и не надо, понимаешь? Я жить не смогу… — Уилл позорно хлюпал носом, смаргивал выступающие слезы, делая вид, что у него слезятся глаза от слишком яркого огня в очаге. — А получилось… Вышел — и возвращаться не хочу.
— Бедненький, — гладила его темноволосая, прижималась бедром, скользила губами по скуле. — А твоя дамочка — дура, такого красавца выставить. Хочешь, я тебе дам, без денег дам, не думай, я же понимаю…
***
Кит вспоминал их всех — не столь уж многих. Они выстраивались перед ним в череду, и из-за их личин глумливо улыбалась жизнь — вне сцены, вне кунсткамеры, кабинета чудес, в который он превратил свою жизнь и куда волок каждого, кто остановил на себе его мимолетный взгляд. Томас Уолсингем, Томас Уотсон, кто-нибудь еще? Может быть, тоже — Томас, чье прозвище он позабыл?
Нельзя вечно влагать персты в разверстые раны Христовы. Рано или поздно приходится укорениться в неверии, отвердеть, как полено для растопки очага, и в уме сделаться таким же — грубо обтесанным поленом. Рядом с благообразной, примороженной белилами женой, поросячьим выводком детей, по пути в выхолощенный, да вдобавок засыпанный известью Рай — во избежание всякой заразы.
Теперь и ты с ними, Уилл, Орфей, Никто?
Черный человек, вырезанный из плоской ночной тьмы.
Волосы Гарри Саутгемптона и на вид, и на ощупь напоминали гладкий текучий шелк — и Кит наматывал, наматывал их на кулак, пока вино, поставленное Уиллом на огонь, выкипало из казанка кровавой пеной.
Лай собак, вой за окном, бычья кровь, на которую слетаются и липнут вездесущие мухи. И снова — Смитфилд, мясные ряды, мухи, веселые костры. Одним — роза, сияющая в небеси, другим — залихватская джига на поджаренных пятках.
Он не помнил, когда оказался один. Бледное, в темных веснушках, лицо Джорджи мелькнуло в дверном проеме — мальчишка так и не осмелился переступить порог хозяйской спальни, и правильно сделал. Гарри был, а потом исчез, испарился, как плотный, кисейный утренний туман, отползающий к замшелым берегам Темзы. Кит успел усомниться, было ли все это на самом деле — и уснул, уронив тяжелеющую, налитую свинцовой болью голову на повернувшуюся под щеку прохладную подушку.
Место, где лежал Гарри, остывало под его рукой.
Ничего не было, все это — дурной, навеянный туманом оттепели сон. Уилл, должно быть, встал пораньше, затемно, чтобы сходить в «Театр» — его замучила смешная, трогательная совесть, ведь он пропустил несколько репетиций своих же пьес. А вдруг Дика Бербеджа выкрадет какой-нибудь нетопырь, смутно знакомый Киту нетопырь, как-то влетевший в окно отчего дома?
— Ваш сын, мастер Марли, прелестный благопристойный юноша. Меня радуют его успехи в пении и служении нашему Господу Иисусу Христу. Я — большой любитель духовной музыки, знаете ли. Большой и преданный любитель всего, что создано и существует, чтобы славить Господа.
Хлопанье кожистых крыл и скрип половиц под босыми ногами. Разговаривать с Топклиффом о Боге — не так больно, как смотреть тебе в затылок, Орфей.
***
Проснувшись, Кит не сразу понял, что уже день. Спелый, налившийся солнечным соком, по-лондонски шумный день — как раз под окнами кто-то раскатисто бранился, мешая уснуть снова, надолго, навсегда.
Кит лежал в своей постели, так и оставшейся пустой — как он всегда и любил, отстаивая свое право спать в одиночестве, умирать каждый вечер и воскресать каждое утро, с яростью загнанного в глухой угол животного, — и тупо прислушивался. Начинал различать слова, разгоняя туман, созерцая чью-то побитую жену и чьего-то украденного, и наверняка уже упокоившегося в желудках обжор, гуся.
Если Джорджи не был еще одним призраком — из тех, что обступали и обступали нетрезвую от странной, похожей на марь, усталости, — он должен был оставить приготовленный завтрак. То, за что ему платили щедрой рукой, и столь же нежадно отвешивали тумаки. Если только…
Кит спустился вниз, пошатываясь и держась за пустоту. Нашел вино и пил его.
Пил, захлебываясь, проливая холодную красноту на голую грудь. Пил, пил, пил, пока его не вырвало выпивкой, горькой слюной и желчью прямо на пол.
Вернувшись в спальню, Кит обнаружил, что его огромная, резная, тяжелая, как все грехи человечества, кровать по-прежнему пуста. И место, примятое кем-то, кто провел с ним часть этой ночи, уже почти разгладилось — видимо, под утро прошел поздний весенний снегопад.
***
Сквозь сон доносились какие-то голоса, и один из них был смутно знаком.
Неужели Кемп пришел опять, не налюбовался на них с Китом в прошлый раз или что там уже стряслось в такую рань, — подумал Уилл и резко сел на кровати.
Кемп?!
Комната была совсем незнакомой, маленькой, кровать тоже небольшой, и рядом, вытянувшись на спине, спала темноволосая девушка, а дальше, закинув на нее руку — рыженькая. Даже странно, как они все уместились здесь, — тупо подумал Уилл. А потом — вспомнил. Вчерашний день, заново пережитый во сне, был тягучим и липким, как худший из кошмаров. Уилл сквозь сон все пытался проснуться, чтобы прекратить его, но теперь искренне сожалел, что проснулся. Все оказалось правдой: и признание отцу, и расставание с Китом, и ограбление, и… и…
Уилл застонал, вцепившись пальцами в волосы. Ничтожный слизняк, кусок дерьма, повинующийся только своему блудливому отростку — прав был отец, еще как прав! Как он мог?! После того, что было вчера, после того, как потерял последнюю опору в жизни, как?!
Должно быть, от его стона или движение, спавшая рядом девушка проснулась, улыбнулась, по-свойски гладя его по бедру.
Уилл попытался отодвинуться.
— Ну, будет, миленький, чего ты стыдишься? — она погладила Уилла по животу, по груди, потерлась о него, как ласковая кошка. — Или по утрам ты не такой смелый? А ночью был горяч, ух, горя-я-яч… — она приподнялась, повела губами от его живота вниз.
Уилл сомкнул колени и залился краской по самые уши.
— Подъем, Шейксхрен! — загремело от порога, и Уилл подобрался, отодвинул девушку, обхватил себя руками, пытаясь прикрыться. — Если ты думаешь, что теперь навсегда поселишься тут, будешь спать в моей постели и трахать моих шлюх, как это делал вчера, то ты ошибаешься! — гаркнул Кемп, но во взгляде его скользило странное одобрение. — Я тебе не Марло!