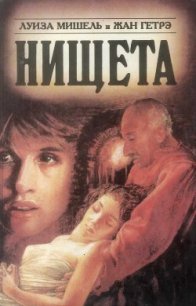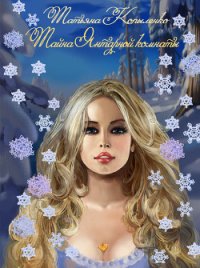Нищета. Часть первая - Гетрэ Жан (читать книги бесплатно полностью .txt) 📗
Разбитый усталостью после долгого путешествия, лихорадочно возбужденный всеми этими событиями, которые непостижимым образом вновь привели его в тюрьму, Жак Бродар кое-как примостился на соломе в общей камере полицейского участка, между почтенным на вид стариком и группой мальчишек-карманников, захваченных при облаве. Честному рабочему тяжело было видеть таких юнцов, преждевременно ставших преступниками. Дети в тюрьме! Неслыханно! Их цинизм и удивлял, и удручал его. Старшему из шайки было не более пятнадцати лет. На каком-то отвратительном жаргоне, почти непонятном Бродару, они болтали о пирушках, о куреве, о женщинах. Никто из них не проявлял беспокойства о своей семье. Казалось, они, подобно червям, возникли из уличной грязи и отбросов. Некоторые даже кичились своей порочностью, хвастались невероятными похождениями. Дети!.. Жака это приводило в содрогание.
Чему же в таком случае учили в знаменитых парижских школах, будто бы прославившихся на всю Францию, если верить газетам, которые Бродар читал в Нумеа? Ведь эти маленькие негодяи, должно быть, сидели на школьных скамьях, прежде чем попали сюда за кражу? Но тогда это черт знает что такое! Какие же правила нравственности внушали им в школах? А если несчастные подростки никогда не учились в школе, то зачем их бросили в тюрьму? Ведь они действовали по неразумию, и, следовательно, сперва их нужно было поместить в учебное заведение.
«О да, — думал Бродар, наблюдая за мальчишками, которые перебрасывались грязными шуточками по адресу молча слушавшего их старика, — да, мои товарищи по ссылке были правы, утверждая, что все в нашей стране надо переделать!»
Его престарелый сосед сохранял хладнокровие и, по-видимому, не обращал внимания ни на зловоние, ни на окружавший его сброд. Этот патриарх как будто находился не в тюрьме, а у себя дома, среди многочисленного потомства.
Несмотря на глубокое личное горе, Бродар был поражен, убедившись, что общественная нравственность за время его отсутствия пала еще ниже. А он-то верил в большие перемены к лучшему!
«Так вот что такое эта прославленная республика, — думал он. — Дети развращены здесь до мозга костей, а старых людей бросают в тюрьмы и глумятся над их сединами!»
Старик — у него было хорошее, открытое лицо — уже давно с жалостью смотрел на Бродара. Кожевник хранил угрюмое молчание; глаза его горели мрачным огнем, лицо было искажено, лоб мучительно напряжен, словно сдерживал напор мыслей, теснившихся в голове. Жак ломал руки, думая о жене и детях: ведь ему даже не пришлось их обнять.
— Не больны ли вы? — участливо спросил старик. — Не хотите ли пить? У меня есть бутылка вина, разбавленного водой.
— Нет, спасибо, — ответил Бродар, — она понадобится вам самому.
— Ничего, мне хватит, возьмите! Надзиратели меня знают; если понадобится, я достану еще. Выпейте, вам полегчает. У вас, наверное, лихорадка?
— Не знаю, что со мною, я сам не свой.
— Бедняга!
— Не могу понять, наяву или во сне все это случилось.
— Вы, значит, не ожидали ареста?
— О нет!
— А мне, напротив, стоило немалого труда добиться, чтобы меня засадили.
— Вот те на! — вскричал один из мальчишек. — Старикан может нас угостить! Слышите, ребята?
— Чем же? — спросил старик.
— Как чем? Да историей о том, как вы попали в каталажку, старый хрыч. Нам любопытно будет послушать!
— Расскажите, расскажите! — подхватили остальные.
Старик, как и все пожилые люди, очевидно любивший делиться пережитым, не заставил себя долго просить.
Он был портным и немало потрудился на своем веку. Жизнь он вел собачью и в конце концов выбился из сил. Глаза, ослабев от постоянной ночной работы, отказывались служить, руки дрожали и не могли больше держать ножниц. Когда-то у него была жена и дети, три славных мальчугана… Но от былого счастья не осталось ничего, кроме воспоминаний. Сыновья были убиты на войне и во время Коммуны: один — пруссаками, другой — сражаясь на стороне федератов [36], третий — в пехоте версальцев. Мать их умерла с горя, а его самого выгнали вон из мастерской, ибо, он как заезжанная кляча, не мог больше трудиться.
— Вот она — жизнь рабочего! — со вздохом промолвил старик. — Растишь детей, а потом их пожирают бессмысленные войны или бесплодные революции; как вол работаешь все лучшие годы жизни и даже не уверен в том, что для тебя найдется место в больнице, когда, дойдя до полного изнеможения, ты свалишься, как надорвавшаяся лошадь под непосильным бременем…
— Однако, старина, все это вовсе не так уж забавно! — прервал его один из подростков. — А я-то думал, вы нас — вдоволь повеселите историей о том, как вас зацапали…
— Терпение, дойдем и до этого. Успеете посмеяться, воришки негодные!
И старик продолжал:
— Когда, несмотря на все старания растянуть подольше, я мало-помалу проел то, что у нас было, с болью в сердце отдав за бесценок жалкую обстановку, которую купила моя добрая жена, — он смахнул слезу, — когда у меня уже ровным счетом ничего не оставалось, пришлось выйти на улицу и протянуть руку. Нелегко это было… Меня задержали за нищенство, и тогда-то я впервые познакомился с каталажкой. Тут, право, не так уж плохо: как-никак, кормят. К несчастью, здесь нельзя жить все время, и меня выпустили.
В своей конуре я уже ничего не нашел — ее занял другой бедняк. Хозяин, торговец старьем, завладел, вопреки закону (как известно, постель отбирать нельзя), моим последним тюфяком за то, что я вовремя не уплатил за квартиру. Прощелыга! Тюфяк-то стоил по меньшей мере двадцать пять франков, а я задолжал только десять. Я просил вернуть мне хоть четыре франка, ведь и в этом случае у него осталось бы одиннадцать франков чистого барыша. Но он и слышать не хотел и выставил меня за дверь.
— Вот сволочь-то! — с презрением заметил один из мальчишек.
— Надо было пустить ему красного петуха! — негодующе воскликнул другой.
— Как вы скоры на руку, ребятки! — возразил старик. — Поджечь недолго, да ведь так можно причинить вред и людям, которые тут ни при чем. Когда мстишь, нужно стараться не задеть невинных, иначе получится подлость. Такое у меня правило.
— Как же вы поступили?
— Ограничился тем, что вынудил его за свой счет позвать стекольщика.
— Как так?
— Очень просто. Сначала я его предупредил…
— Не стоило труда.
— Нет, стоило. Я прихожу к нему и говорю: «Вы мне должны пятнадцать франков. Отдадите или нет?» А он мне отвечает: «Ничего я вам не должен, убирайтесь вон, будьте столь любезны!» Они обходительны, эти хозяева… Тогда я говорю: «Берегитесь, господин Каню, не доводите меня до крайности!» — «Ах, я тебя довожу до крайности? Ладно, вот позову приказчика, он доведет тебя, куда надо, хорошим пинком!» После этого я удаляюсь. Ворюга-хозяин вообразил, будто я испугался. Как бы не так! Едва только он скрылся за прилавком и принялся подсчитывать выручку — я тут как тут с большим булыжником. Трах! Дзинь! «Не продадите ли битого стекла?» — кричу и улепетываю. Хозяин бежит за мной. Я подпускаю его ближе, оборачиваюсь и — бац! — отвешиваю ему оплеуху. Он дает сдачи; мы тузим друг друга. Схватка между босяком и собственником! Он кричит: «На помощь! Убивают!» Один за другим подбегают полицейские. Но хозяину не везет: хватают именно его. Меня не трогают, говорят, что вызовут как свидетеля. Видно, приняли за кого-нибудь другого! Но меня это вовсе не устраивало. Я иду в полицию и рассказываю комиссару, как было дело. И надо же, чтобы эта каналья вздумал сжалиться надо мной: я, мол, не должен беспокоиться, он-де не посадит меня в каталажку, пальцем-де не тронет… Он, видите ли, знает, что за прохвост этот Каню; на моей стороне если не закон, то, во всяком случае, справедливость, этого достаточно… И пошло, и поехало! Тогда, понимаете сами, меня разобрало… Ну, я ему и наговорил всякого вздора. На сей раз его задело за живое, и он меня посадил. Вот и все!
— Но это совсем не смешно! — в один голос закричали мальчишки.
36
Федераты — так называли себя сторонники Парижской Коммуны.