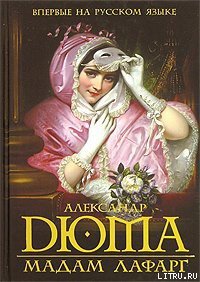Амори - Дюма Александр (прочитать книгу txt) 📗
— Господа, — сказал старик нескольким присутствующим, нашедшим в себе мужество сопровождать его до Виль-Давре, — вы могли видеть на могиле Мадлен, что человек, который говорит с вами, уже не живет. Начиная с сегодняшнего дня, я больше не принадлежу земле, я принадлежу только моей дочери. Париж и свет больше не увидят меня. Я больше не появлюсь ни в Париже, ни в свете.
Оставшись здесь один, в своем доме, окна которого, как вы видите, выходят на кладбище, я буду ждать, чтобы Бог назначил мне день, недописанный на нашей могиле. Я никогда никого не буду принимать.
Примите, господа, мои последние слова благодарности и прощания.
Он говорил так уверенно и убедительно, что никто и не подумал возражать ему; проникнутые его скорбью, все молча пожали ему руку и почтительно удалились.
Когда экипаж, увозящий их в Париж, тронулся, господин д'Авриньи повернулся к Амори, с непокрытой головой стоявшему с ним рядом.
— Амори, — сказал он, — я только что сказал, что, начиная с завтрашнего дня, я не увижу Парижа. Но мне необходимо вернуться туда сегодня, чтобы отдать последние распоряжения и привести в порядок все мои дела.
— Как и мне, — холодно заметил Амори. — Вы забыли меня в эпитафии на могильной плите, но я с радостью увидел, что рядом с Мадлен есть место по крайней мере для двоих.
— Ах, вот как, — сказал господин д'Авриньи, глядя на молодого человека пристально, но без малейшего удивления. — Вот как.
Затем добавил, направляясь к экипажу:
— Едем.
Они направились к последнему экипажу, который ждал их, и отправились в Париж, не обменявшись ни единым словом, как и утром.
Когда они доехали до площади, Амори приказал остановиться.
— Извините, — сказал он господину д'Авриньи, — но у меня тоже есть дела сегодня вечером. Я буду иметь честь поговорить с вами, когда вернусь, не так ли?
Доктор кивнул.
Амори вышел, а экипаж продолжал путь к улице Ангулем.
XXXIV
Было девять часов вечера.
Амори сел в наемный кабриолет и приказал везти себя в итальянскую оперу. Он вошел в свою ложу и сел в глубине, бледный и мрачный.
Зал сиял от света люстр и сверкал бриллиантами. Он созерцал этот блеск холодно, несколько удивленно, пренебрежительно улыбаясь.
Его присутствие вызвало изумление.
Друзья, заметившие его, прочитали в его лице нечто настолько торжественное и суровое, что ощутили глубокое волнение, и ни один из них не решился зайти и поздороваться.
Амори никому не говорил о роковом решении, и, однако, каждый содрогался при мысли, что этот молодой человек мог сказать свету, как некогда гладиаторы говорили Цезарю:
«Идущий на смерть приветствует тебя».
Он прослушал этот ужасающий третий акт «Отелло», музыка которого явилась как бы продолжением мелодии «Гнева Господня», он слушал Россини и видел Тальберга. Когда, задушив Дездемону, Отелло убил себя, Амори настолько серьезно все воспринял, что чуть не крикнул, повторив слова персонажа оперы:
«Не правда ли, это не больно, Отелло?»
После представления Амори спокойно вышел, снова нанял экипаж и приехал на улицу Ангулем.
Слуги ждала его. Он увидел свет в комнате господина д'Авриньи, постучал и, услышав: «Это вы, Амори?», повернул ручку и вошел.
Господин д'Авриньи сидел за столом, но встал, увидев Амори.
— Я зашел обнять вас перед сном, — сказал Амори с величайшим спокойствием. — Прощайте, отец мой, прощайте!
Господин д'Авриньи пристально посмотрел на него и крепко обнял:
— Прощай, Амори, прощай!
Обнимая его, он намеренно положил ему руку на грудь и заметил, что сердце Амори билось спокойно.
Молодой человек не обратил внимания на это движение и направился к выходу.
Господин д'Авриньи следил за ним взглядом и, когда тот открыл дверь, взволнованно сказал:
— Амори, послушайте…
— Слушаю вас, сударь, — сказал Амори.
— Подождите меня у себя. Через пять минут я приду с вами поговорить.
— Хорошо, отец.
Амори поклонился и вышел.
Его комната находилась в одном коридоре с комнатой господина д'Авриньи; он вошел, сел за стол, открыл ящик, убедился, что к пистолетам никто не прикасался, что они заряжены, и улыбнулся, играя спусковым крючком одного из них.
Услышав шаги господина д'Авриньи, он положил оружие в ящик и закрыл его.
Господин д'Авриньи открыл дверь, прикрыл ее за собой, молча подошел к Амори и положил ему руку на плечо.
Прошла минута странного торжественного молчания.
— Вы хотите мне что-то сказать, отец? — спросил Амори.
— Да, — сказал старик.
— Говорите, я вас слушаю.
— Неужели вы думаете, сын мой, — заговорил господин д'Авриньи, — что я не понял вашего решения покончить счеты с жизнью сегодня ночью, может быть, сейчас же?
Амори вздрогнул и невольно посмотрел на ящик стола, где были закрыты пистолеты.
— Я прав, не так ли? — продолжал господин д'Авриньи. — Пистолеты, кинжал или яд находятся здесь, в этом ящике. Хотя вы не дрогнули, или, наоборот, именно потому, я вижу, что не ошибся. Да, мой друг, это величественный поступок, прекрасный и редкий; я люблю вас за эту любовь, которую вы питали к Мадлен, и теперь я могу сказать, что она была права, ответив на ваше чувство. Вы заслужили ее сердце, и без нее невозможно жить на этом свете.
О, мы с вами всегда сможем прийти к согласию, но я не хочу, чтобы вы кончали свою жизнь самоубийством, Амори.
— Сударь… — прервал его Амори.
— Дайте мне закончить, дорогое дитя. Неужели вы думаете, что я буду пытаться отговорить вас или утешить? Банальные фразы, общепринятые утешения недостойны ни вашего горя, ни моего. Я думаю, как и вы, что если Мадлен ушла от нас, единственное, что нам остается, — идти за ней. Я размышлял об этом и сегодня, и много ранее. Мы не сможем присоединиться к ней, наложив на себя руки. Да, это самый короткий путь, но самый ненадежный, ибо это не путь, который указал Господь.
— Однако, отец… — сказал Амори.
— Подождите, Амори. Вы слышали сегодня утром в церкви «Гнев Господен»? Конечно, вы его слышали!
Амори медленно провел рукой по лицу.
— Да, разумеется, ибо его пугающая гармония поражает самое холодное сердце, самый неустрашимый ум; с той минуты, как я услышал этот гимн, я думаю, и я боюсь.
А если церковь говорила правду: если Господь, разгневанный тем, что посягнули на жизнь, дарованную им, не допустит в ряды своих избранников тех, кто совершил это, если он разлучит нас с Мадлен? Ведь это невозможно! Даже если есть хоть один шанс, что страшная угроза осуществится, я не хочу, чтобы он выпал мне, я перенесу самые мучительные страдания, я проживу еще десять лет, десять ужасных лет; но чтобы найти ее в вечной жизни, я проживу эти десять лет.
— Жить! — горестно воскликнул Амори. — Жить без воздуха, без света, без любви, без Мадлен!
— Так надо, Амори, и выслушайте меня! Во имя Мадлен, в память о ней, я, ее отец, запрещаю вам убивать себя.
Амори сделал жест отчаяния и уронил голову на руки.
— Послушайте, Амори, — помолчав, продолжал старик, — когда ее тело опускали в могилу и я слышал, как земля, разделяя нас, сыпалась лопата за лопатой на ее гроб, я услышал слово или Божью мысль, переданную мне ангелом. И теперь я чувствую себя увереннее в этом мире. Я скажу вам это слово, Амори.
Я прошу вас подумать над всем этим и помнить о моем запрете. А теперь я оставлю вас одного в полной уверенности, что завтра утром вы спуститесь вниз, потому что перед отъездом в Виль-Давре я хочу поговорить с вами и Антуанеттой.
— А это слово? — спросил Амори.
— Амори, — торжественно заговорил господин д'Авриньи, — оставим себе нашу боль и наше отчаяние. Запомните слова, какие, мне кажется, в последний миг сказала мне дочь:
«Зачем убивать себя, ведь мы умираем».
И, ничего больше не добавив, старик удалился так же медленно и торжественно, как и вошел.
Не страшно умереть, когда прожита долгая череда дней, когда жизнь утомила вас, когда болезнь иссушила вас, когда долгие годы, нагромождаясь один на другой, наполовину убили вас.