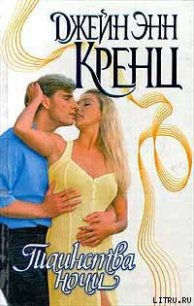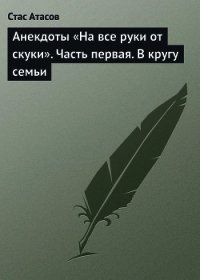Жена султана - Джонсон Джейн (онлайн книга без TXT) 📗
Кто-то обустроил ее с единственной целью. Здесь все завалено матрасами и подушками, кругом стоят французские зеркала, смердит тяжелым дымом, сладкими благовониями и пролитым семенем. Между подушками в землю вбит шест. Я пытаюсь бороться, но конечности мои вялы и бесполезны, их обездвижило то, что я вдохнул через ткань, что бы это ни было, и я думаю, что же он за дьявол: нашел снадобье, которое оставляет разум ясным, когда тело засыпает.
Меня швыряют на матрас и привязывают мои руки к шесту. Все это время я велю ногам упереться в землю, чтобы я мог выдернуть шест и забить им врага до смерти; но мышцы глухи к моим призывам. Я слышу, как одному из невольников велят принести воды, мыла и тряпку, и вскоре мальчик возвращается и смывает с меня кровь и мозг. Я видел этого паренька в лагере, но не знаю, как его зовут — а и знал бы, не смог бы с ним заговорить. Вместо этого я таращусь на него, пытаясь показать, что не согласен на мерзкую непристойность, что прошу его бежать за помощью, но он смотрит вниз, прячет глаза — без сомнения, он не впервые такое видит. Скорее всего, бедное дитя само испытало куда худшее.
Великий визирь ходит по палатке, зажигает свечи и тихо напевает — «Охотник и голубка», нежная красивая песенка, которую любят женщины гарема. У меня от омерзения сводит живот. Так вот как он меня видит: беспомощная жертва, которую вот-вот пронзит его стрела?
Наконец он завершает приготовления. Садится возле меня на корточки.
— Ну что, Нус-Нус, приятно, правда? Только мы с тобой. Исмаил думает, что ты мертв — если он вообще о тебе думает. Ты мой, и я могу делать с тобой, что пожелаю.
Он задирает мою рубаху, оголяя меня, и смотрит на то, что осталось от моего мужского достоинства. Берет мой срам в руку, начинает со злорадством им играть.
— Тонкая, умелая работа, да? Так и должно быть: я заплатил лучшему в этом деле, я же видел, как калечат других — дурные иссечения, воспаления, заражение крови. Было из чего выбрать.
Его взгляд лениво скользит по мне, он наслаждается властью над тем, кто при других обстоятельствах убил бы его на месте.
— Спадоне, которым отрывают тестикулы; тлибиа, которым их просто разбивают; или сандали, которым удаляют и член, и мошонку, — так обычно поступают с черными. Многие от такого оскопления умирают, а тем, кто выживает, остается так мало, что им трудно помочиться.
Он придвигается ближе.
— Черный Джон носит в тюрбане большую серебряную булавку с изумрудной головкой, видел?
Я видел, но просто смотрю в пустоту поверх плеча визиря, словно его тут нет. По его голосу слышно, как он хитро улыбается:
— Знаешь, это ведь не булавка — это трубка. Он с ее помощью писает.
Он сжимает пальцы, и я вздрагиваю.
— Тебе повезло, я решил не отрезать все — я расценил это как вложение на будущее.
Труп! Я увижу твой труп с проломленной головой, а в глазницах твоих будут копошиться черви.
— Ксенофон говорит, что злобные кони, если их охолостить, делаются смирными, не кусаются больше и не лягаются, но по-прежнему годны в бою; а псы-кастраты не теряют ни нюха, ни способности к охоте, но больше не убегают от хозяина. Наверное, то же справедливо и для людей. Если удалить мужчине только яйца, он станет миролюбивее. И благодарнее, надеюсь. А еще я слышал, что это мероприятие скорее увеличивает половую силу, а не отнимает ее; и что, если урезать взрослого, желание может не сойти на нет. Уверен, Нус-Нус, если тебя должным образом ободрить, с тобой так и получится. Я не желал, чтобы мы сошлись именно так, но ты не будешь меня винить за то, что я воспользовался случаем, когда он так удачно представился. Немножко сладких любовных игр, а потом мы тебя вернем туда, где нашли, и по-настоящему размозжим голову. И никто не узнает, что ты на несколько кратких часов пережил бойню. Жаль, что все так вышло, Нус-Нус. Все могло бы быть совсем иначе, не будь ты так… упрям. Я хотел всего лишь стать твоим наставником в искусстве наслаждения. Ты во всем остальном такой сведущий мальчик — это бы превосходно завершило твое образование. Зря погубил такое роскошное тело.
Он подзывает невольника, они вдвоем меня переворачивают и укладывают так, чтобы подставить мой зад. Когда мальчика отпускают, я с ужасом вспоминаю Элис в той же позе на постели Исмаила в ту первую ночь. Потом я чувствую на себе его руки и вдруг снова оказываюсь в пустыне, переживаю первое насилие, и все это похоже на страшный сон, в котором за тобой гонится чудовище, а ты не можешь бежать…
К моей глотке подступает рвота, и вот она уже потоком извергается на богатые шелка, с такой силой, что даже забрызгивает поверхность французских зеркал.
— Дрянь! — с отвращением вскрикивает великий визирь.
Он вскакивает и бьет меня ногами по ребрам. Меня снова рвет, теперь ему на туфли — без сомнения, дорогие. Он воет, как пес, снова пинает меня, уже в живот. На этот раз я чувствую боль, и это хорошо: она разливается по мне, как очищающий огонь. Действие снадобья, кажется, иссякает. Я поджимаю пальцы ног и ощущаю, как они скребут землю: сперва слабо, потом отчетливее. Давай же, понукаю я свое бесполезное тело. Я сосредотачиваюсь на руках, привязанных к железному шесту, направляю мысль в пальцы, один за другим — и вижу, как они, один за другим, шевелятся. Ухватившись за шест, я начинаю раскачивать его и тянуть…
— Что? Как?
Голос Абдельазиза переходит в визг. Он нашаривает кинжал.
Шест выходит из земли, и я достаю им визиря. Великолепный, победительный удар приходится точно в середину его тюрбана. Но тюрбан великого визиря, разумеется, превосходит размерами даже убор султана. Он состоит из многих локтей ткани, свитой в бесконечные сложные складки, так, что голова визиря походит на крупную луковицу. Удар оглушает его лишь на мгновение, потом он бросается на меня с кинжалом, и в глазах его пылает неутоленное желание. От первого нападения я уклоняюсь, пытаюсь ударить его во время второго, но он тверд, как скала. Кинжал входит мне под ребра. Я ощущаю не боль, но жар, от которого разгорается моя ярость. Раскрутив шест над головой, я вкладываю всю силу его вращения в удар — тот приходится в грудь визиря и валит его с ног. Он, словно взлетевший бегемот, приземляется на спину, и воздух выходит из его груди с хриплым шумом. Он не поднимется — я ему не дам. Стоя одной ногой среди подушек, я наступаю второй ему на брюхо и забираю кинжал из его вялой руки.
— Довольно, Нус-Нус.
У входа стоит бен Хаду, возле него — молчаливый мальчик-невольник Абдельазиза. Дитя с тревогой смотрит на кинжал, на своего поверженного господина и убегает прочь.
— Идем. Как бы он ни был нам обоим противен, ничего хорошего из этого не выйдет.
Жизнь продолжается, словно ничего необычного не произошло. Когда я появляюсь возле султана, — в чистой одежде и с умело обработанной Медником раной — Исмаил просто отдает мне приказания, как будто не был близок к тому, чтобы размозжить мне череп кувалдой. За обедом после того, как мы с Амаду сняли пробу с еды, султан впадает в печальную задумчивость: с ним такое случается после кровопролития.
Мы сидим на ковре возле главного шатра, и султан смотрит в небо.
— Астрономы говорят, что нам сейчас светят те же звезды, что светили Пророку, когда он сидел у входа в пещеру Хира. Видишь, вон Аш-Шаулах, воздетый хвост скорпиона, — он указывает на мириады неразличимых точек в ночном небе. — Ат-Тиннин, змея; Саад аль-Малик, звезда великого царя.
На последней искорке он задерживается взглядом надолго — молчаливый, задумчивый. Его тонкий профиль обрисован лунным светом. Наконец Исмаил произносит:
— Кем меня запомнят, Нус-Нус?
Есть ли вопрос, правдивый ответ на который был бы губительнее? За годы мы обсудили многое, но то были по большей части вопросы приземленные: преимущества шерсти зимой и хлопка летом, качество соли из разных источников — морской и из пустыни; нрав кошек и верблюдов. Он расспрашивал меня о Венеции, но я видел, как стеклянеют его глаза, когда я говорил о ее водных улицах — он не мог вообразить себе канал, и ему это было неинтересно. А вот когда я заговаривал об архитектуре и о бросающемся в глаза богатстве, султан слушал внимательно и задавал множество вопросов. Он спрашивал меня о языке и переводе, особенно о том, что касается языка деловых людей; мы даже обсуждали Аристотеля, Гомера и Плиния — авторов, писавших до рождения ислама и потому более безопасных, чем мой любимый Руми с его полетом исступленного воображения и подозрительными еретическими воззрениями. Но я никогда не видел в Исмаиле ни тени уязвимости или сомнения, и не знаю, как отвечать.