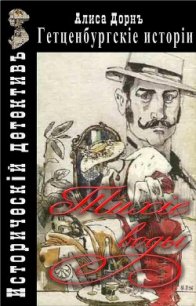Над бурей поднятый маяк (СИ) - Флетчер Бомонт (читать хорошую книгу txt) 📗
— Да, Кит, да, да, я все сделаю, как ты сказал, я все понял. Все это будет с утра, как ты и говорил. А сейчас…
Он брал Кита за виски, поворачивал к себе его лицо, и шептал, шептал в самые губы:
— Сейчас возьмешь меня? Только не жалей, слышишь? Я тоже хочу, чтобы было больно.
***
Этот вечер определенно не задался, думал Дик, взвешивая в руке бритву. С самого начала.
Они не ставили «Ричарда», но Топклифф все равно пришел, как ни в чем не бывало, и потребовал стул на самой сцене — как всегда.
Дик и сам от себя не ожидал, но ему сделалось дурно, стоило услышать уже знакомый до дрожи голос: тихий, с тягучими брезгливыми нотками, как будто говоривший унюхал, что собеседник обделался. Впрочем, думал Дик, застегивая предательски плясавшими пальцами крючки на своем новейшем костюме Ромео, возможно, так оно и было — в палаческом, столь любимом деле Топклиффа чего только не случалось. Он сам недавно сказал, что Дику придется или блевать и испражняться в его присутствии, или…
Дик вышел, конечно, на сцену, нельзя было не выйти. Но в первой же реплике дал петуха, и такого позорного, какого с юности не бывало. Публика зашумела, заворчала, как недовольный пес. А затянутый в черную скрипучую кожу старик, как будто и вовсе того не замечал, улыбался Дику, только ему, да так благостно, что Дику стало жарко, и пришлось расстегнуть верхний крючок.
И сразу же память услужливо подсунула крючки Топклиффа, про которые тот рассуждал со знанием дела, как заправский рыбак, а ведь ловил на них вовсе не рыб. А эта комната с волосами замученных им людей — каждая прядь в отдельной рамке…
Язык послушно произносил реплики без участия разума. Дик же чувствовал, что на лбу выступила испарина, а к горлу подкатил противный склизкий ком, стоило лишь представить все эти аккуратные рамочки с разноцветными прядями — и все, почти все из тех людей уже наверняка были мертвы… И умерли страшно и мучительно.
Кое-как, скомкав сцену и втайне радуясь, что Уилл этого не видит, Дик выскочил за кулисы под сердобольным взглядом Гофа.
А дальше был кошмар, который вспоминать не хотелось, но он все всплывал и всплывал в памяти, и с каждым разом Дику открывались все новые и новые мерзкие подробности.
— Ну что же вы, юный Бербедж, — настигло его знакомое, и он замер, пригвожденный к полу. Топклифф же подошел вплотную.
— Вы так напряжены. Стоит ли бояться неизбежного.
Дик перестал дышать, когда перчатка Топклиффа с противным тихим скрипом коснулась волос. Казалось, это скрипел сам Топклифф — не человек, нет, чудовище, состоящее из покрытой тонкой кожей тьмы. Топклифф потянул за волосы, заставив Дика запрокинуть голову, заговорил в ухо:
— У нас с вами столько всего впереди… Дик. Вы ведь позволите называть вас Дик, мастер Бербедж, правда?
И вспоминая каждый звук этого голоса, Дик содрогался всем телом, растирал мыльный брус в пену, и думал: «Ты не получишь моих волос, тварь, урод. Я обману тебя хотя бы в этом».
***
— Не жалеть? — переспросил Кит, то выныривая для вдоха, то вновь утопая в переплетении корней древних деревьев. Корни были живыми, живее всех тех людей, похожих на животных, что попадались в сети и жернова его осатанелой похоти — и прорастали под кожу, так, что разомкнуть объятия становилось физически больно. — Я не жалел тебя там, в «Сирене», когда мне захотелось разукрасить твое лицо так, чтобы ни одна девица на тебя больше не взглянула — и в то же время чтобы все они, как одна, текли от жалости к тебе… Знаешь, ударить тебя в лицо, в твое красивое, прекрасное лицо, — ведь ты одарен чертами, посрамляющими даже беломраморность Антиноя, — было так же мучительно, как было бы, ударь ты меня… Я чувствую все, что чувствуешь ты. Каждая капля твоей крови, пролитая на равнодушную землю — убавляет кровь в моих жилах…
Он шептал сквозь улыбку и сквозь поцелуи, то и дело прерывающие журчание шепота, завязывающие речь в трудные, колючие узелки. Прикасался чуткими пальцами к пустоте, где должно было находиться лицо Уилла — и находил холодный лоб и горячую переносицу. Отрываясь от губ, Кит целовал своего Орфея в разбитый, сломанный нос, проводил языком он кончика до самого лба, и обратно, чтобы заново обрести ощущение губ на губах.
— И я бы убил на месте того, кто сделал с тобой то, что делал и делаю я. Уилл, Уилл, мой Уилл, лишь мой Уилл — какое наслаждение произносить твое имя, как свое собственное! — стоило мне увидеть, что Поули замахивается, чтобы садануть тебя ногой в живот… Стоило услышать, как ты выдыхаешь, получив этот удар сполна…
Он так и не договорил. Переживание прошедшей минуты, минуты утекшей, как песок сквозь судорожно сжавшиеся на чужих плечах пальцы, захлестнуло его — как новая попытка выпить другую, отданную на откуп душу, вжавшись ртом в податливо влажный рот.
Кит перекинулся на спину, дернув Уилла за собой. Простыни под горячей, все еще покрытой потом последних содроганий спиной, казались умиротворяюще прохладными. Как эта весна. Как краткие откаты, отливы, предутренние замирания, предваряющие взрывы бури.
Давай не будем торопиться, — сказали руки Кита, лунно, дымчато блуждая по телу Уилла, направляя его, привлекая, подтягивая.
Давай сделаем это так, как еще не делали никогда — и сделаем ли снова? — говорил путь, проложенный губами от твердых ключиц до местечка пониже, тут же припечатанного неожиданно хищным сжатием зубов.
— Сегодня я научу тебя кое-чему, — шепот пробежал по покрывшейся мурашками коже, как мимолетное дыхание весеннего ветра — не знаешь, что он принесет, воскресенье Христово или чумную черноту. — Встань-ка с постели, возьми плошку, и возвращайся. Я доставлю тебе столько боли, сколько будет нужно — но чтобы сделать это, мне нужно начать… А для того, о чем я думаю, и что понравится тебе, простого рвения будет недостаточно.
***
— Мне было больно — тогда, — выдохнул Уилл навстречу живой, дышащей темноте, обретающей очертания Кита. — Больно, да, но не потому, что ты меня ударил. Я был рад этому, знаешь — хоть какое-то прикосновение, знак, что ты… — Уилл осекся и засмеялся, упреждая вопросы Кита и возможное удивление. И заговорил вновь, коротко, шепотом, понимая, как дико звучали его признания — но эта ночь, ночь моления о Чаше, ночь воссоединения была именно для таких откровений — до самого дна. — Больно от того, что я не знал, за что. Не знал, и мне казалось, ты просто хочешь оттолкнуть меня, потому что я наскучил тебе — а может быть, были еще и другие причины, но я их не знал. И знать не хочу! — опередил он движение Кита, порыв его голоса, прикладывая к губам ладонь — ту самую, раненую когда-то. — Всего этого нет, слышишь, Кит, просто нет. И не было никогда.
Уилл жмурился, чувствуя бережные прикосновения Кита, вдыхая вслед за ним, прорастая в него сомкнувшимися объятиями. оплетая, врастая до самого сердца — и сквозь него.
— А с Поули было не больно. Ну, то есть, больно, конечно, меня чуть не стошнило от боли, но ты обнимал меня, понимаешь? Ты пришел ко мне на выручку — и я все забыл. Тут же.
Кит целовал его. Или это он целовал Кита? Или они оба тянулись друг другу навстречу, сплетая тела, соединяя души — в одну?
Склонялся к Киту, следовал за его руками, за его движениями, предугадывая их. Теперь — вместе. Теперь — рядом. В ногу. Всегда.
Разорвать объятия было, будто вырвать из груди кусок мяса — с кровью, обнажая ребра, но Уилл послушно встал, добрел, спотыкаясь, до плошки, и лишь чудо ее не опрокинул, идя обратно.
Вернуться к Киту было — словно утопающему вдохнуть воздуха.
Когда-то Кит говорил ему, что боль — всего лишь врата, монета, которой надлежит платить за удовольствие. Уилл знал, что он прав, верил ему безоговорочно, но знал и другое: боль — ничто по сравнению с пустотой. И потому, вернувшись из своего короткого путешествия, он, Орфей, протягивал в темноту ладонь — и тут же встречал протянутую навстречу руку Меркурия.
И пустота с ворчанием отступала, как зверь, которому тыкали в морду факелом.