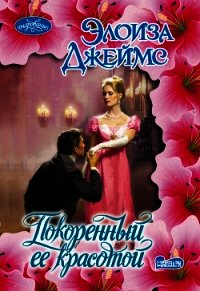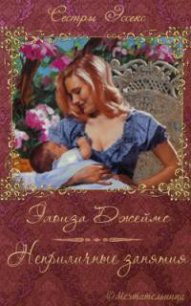Премудрая Элоиза - Бурен Жанна (читать лучшие читаемые книги txt, fb2) 📗
Преподобная мать была не из тех, кому можно дать лекарство насильно.
Сиделка пожалела, что матушка Агнесса ушла с другими сестрами на вечернюю службу. Ясно, что от послушниц, что неустанно молились у ложа умирающей, толку не будет.
Приорша — давняя подруга аббатисы и к тому же племянница покойного мессира Абеляра — была единственной среди монахинь Параклета, кто еще мог как-то повлиять на ее железный дух.
Оставалось ждать. Служба недолгая, матушка Агнесса не замедлит вернуться.
Сестра Марг поставила лекарство на дубовый сундук у очага, помешала угли и бросила на них сухого розмарина. Она страдала от своей беспомощности, уязвленная и в самолюбии сиделки, и в дочерней привязанности к умирающей.
Со вздохом она подошла к ближайшему окну, приотворила его и вдохнула принесенный восточным ветром воздух, напоенный ароматом гвоздики и чабреца.
Дождь прекратился. Сестра Марг охотно прогулялась бы, как она любила, меж огородных гряд, простиравшихся перед ее взором до самых берегов Ардюзона, окаймленных шелестящим камышом. Она оглядела едва холмистый горизонт, где к монастырским лугам подступали леса, бросила взгляд на мельницу, деревянное колесо которой сверкало в лучах солнца в радужном облаке водяной пыли, и снова вздохнула. Никогда уже великая аббатиса не попробует первых вишен, не нарвет роз на могилу мэтра Абеляра и не велит садовнику-мирянину посеять шалфей или кервель! Как пусто станет с ее уходом! Элоиза была истинным средоточием всей жизни Параклета, и материальной, и духовной. Что будет после ее кончины?
Сиделка бесшумно прикрыла окно и, взяв четки, обернулась к лежащей. Встав в ногах постели и не сводя глаз с той, что по-прежнему ее не замечала, она приготовилась за нее помолиться.
В одном из писем я писала тебе: «И наше исступление, и час и место, ставшие его свидетелями, так глубоко запечатлелись в моем сердце вместе с твоим образом, что я вновь чувствую себя с тобой — в том же месте, в том времени, в том исступлении».
Не скрою — много долгих лет воспоминания о прошлом были для меня адом. Моя память с неизменной точностью сохраняла воспоминания о каждой встрече, каждом движении, каждом ощущении. Ни ежеминутный труд, ни жаркие молитвы, ни унизительные исповеди, ни беспрестанное умерщвление плоти — ничто не могло отогнать этих воспоминаний, так они были живы.
Но сегодня я могу без мучений, лишь с пронзительной нежностью, вспомнить свою девичью комнатку, которую занимала в юности в доме дяди Фюльбера.
Я вновь вижу себя за столом перед раскрытыми рукописями. Я чутко прислушивалась, ожидая твоего возвращения из кафедральной школы. Я любила самый звук твоих четких и быстрых шагов и наслаждалась сладостью ожидания. Я знала, что ты замрешь на мгновение в проеме двери, прежде чем она вновь захлопнется, закрывая нас в нашем раю.
Дядя доверял нам безмерно. Когда он впервые привел тебя ко мне в день, когда ты у нас поселился, он счел необходимым ненадолго остаться с нами и присутствовать при начале урока философии, который ты незамедлительно мне дал. Ученость твоих речей одновременно и нагнала на него сон, и убедила в твоей серьезности.
Дело в том, что он не видел твоего взгляда!
Подняв на тебя глаза, когда он представил нас друг другу, я поразилась выразительности твоего лица. Ты обращался ко мне с какими-то банальными словами, но твой взгляд выдавал самый жгучий интерес.
Несколько дней, однако, ты довольствовался этим языком и при этом заставил меня прилежно заниматься, ограничиваясь тем, что глядел на меня, как охотник из засады. Я же ждала и вместе с тем страшилась момента, когда твоя манера изменится. Меня охватывала сладостная тревога.
Заставляя меня томиться, ты выказал себя весьма тонким и искусным любовным стратегом, хоть и не был подготовлен к этому своей прошлой жизнью и получал со мной боевое крещение. Самый опытный мужчина не повел бы себя иначе. Было ли то смущение перед первым жестом, осторожность в виду возможного недовольства Фюльбера или ты попросту не решался увлечь в бездны страсти девственницу, каковой я была? Не знаю. Позже я забыла спросить тебя об этом. Мы были заняты делом, совсем не оставлявшим нам времени на взаимные расспросы…
(window.adrunTag = window.adrunTag || []).push({v: 1, el: 'adrun-4-390', c: 4, b: 390})Как бы то ни было, твое промедление, заставив меня усомниться в твоих чувствах, смело последние препятствия, которые еще воздвигало во мне целомудрие. Вначале удивленная, затем обеспокоенная, я сочла, что ошиблась и вовсе не нравлюсь тебе. Меня изводили сомнения. Почему ты молчишь? Разве ты не испытываешь волнения в моем присутствии? Быть может, я неверно истолковала твои взгляды? Неужели я самоуверенно приняла за влечение то, что было всего лишь единением духа и общностью вкусов учителя и ученицы?
Я не знала, что думать. В то же время двусмысленность наших отношений обнаруживала себя во множестве ловушек и тысяче искушений. Бок о бок мы склонялись над книгой, наши руки мимоходом соприкасались, дыхание смешивалось. Только дрожь в голосе выдавала иногда наши внутренние бури.
Отсрочка, положенная тобой для утоления наших вожделений, окончательно свела меня с ума.
Совершенно очевидно, что этим промедлением ты и покорил меня самым искусным образом. Если в моем сердце и сохранялся какой-то неподвластный тебе уголок, ты все пустил в ход, чтобы и он сдался на твою милость.
И могла ли ученица монастырской школы не почувствовать упоения, когда всеведущий, всеми почитаемый учитель расточал себя ради нее одной?
Может быть, ты с самого начала почувствовал, что волновал меня? Может быть, ты с первого дня уже знал, что тебе достаточно сделать шаг? Я готова поверить в это. Но твоя властная натура жаждала подчинить себе и мою мысль, чтобы я принадлежала тебе и умом, а не только телом.
О, Пьер! Ты стремился к абсолюту, и тебе мало было просто соблазнить меня. Тебе нужно было еще сплавить два наши разума воедино, бросив мой в огонь своего… Твоя власть была огромна, ты знал ее. Ты без труда обучал меня своим методам — к ним я, впрочем, была вполне готова. На моих мыслях навсегда остался отпечаток твоих суждений. Ты знаешь, что я никак не сопротивлялась этому. Я приняла твое учение, как земля принимает дождь.
Очень скоро меня покорили оригинальность, глубина и блеск твоих воззрений. Еще раньше я была покорена очарованием твоей личности, твоих глаз, твоего голоса. Ты ослеплял меня! Все твое существо было для меня совершенством до последней частицы.
Помню, когда ты уходил, я долго сидела неподвижно, как околдованная.
Уже давно стемнело, ибо дядя в своем безумии предоставил тебе свободу учить меня в любое время суток. Конечно, вечер подходил для этого лучше всего, и ты предпочитал ночные часы, когда повсюду гасли огни и мы оставались наедине.
Фюльбер, служанки, все в доме спали. Лишь моя комната сияла в темноте, как прибежище тепла и света, освещенная двумя свечами с ароматом амбры. От монастыря Нотр-Дам, спящего между рекой и собором, не доносилось ни звука. Только отворив окно, можно было различить слабый плеск воды у берегов нашего острова. Город, убаюканный в объятиях Сены, целиком погружался во мрак и тишину.
Мои напряженные до предела нервы возбуждались этой темнотой, ставшей нашей сообщницей. Все толкало меня к любви: разве не звала меня к тому и сама ночная уединенность нашего убежища? Я всегда считала и все еще считаю, что Провидение с самого моего рождения предназначило мне быть твоей. Такое стечение обстоятельств не обманывает.
Ты покорил меня насколько это было возможно, и мне оставалось только полностью принадлежать тебе.
Ты догадался о моем согласии и ты тоже устал ждать: молчаливый сговор привел нас к развязке. В тот вечер, когда ты привлек меня к себе на грудь, я не оказала ни малейшего сопротивления, и ты сделал то, что хотел.
Помнишь? На мне было платье из алой ткани, и твои пальцы разорвали мой серебряный пояс.
Мы как раз закончили перевод страницы из Сенеки. В пылу объяснений ты положил свою руку на мою. Так она и осталась. И тогда я увидела, как оживление мысли сменилось на твоем лице совсем иным волнением. Я ждала этой секунды, я звала ее бессонными ночами и однако я ее страшилась. Почувствовав твое дыхание на своих губах, я задрожала с головы до ног от смущения и какого-то детского страха.