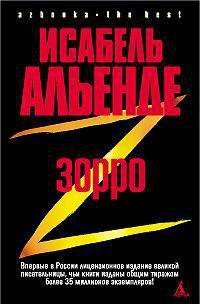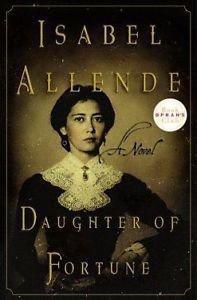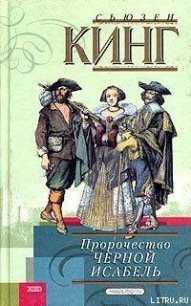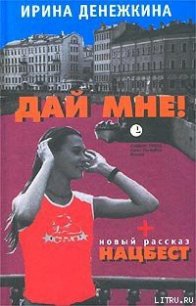Японский любовник - Альенде Исабель (читать хорошую книгу полностью TXT, FB2) 📗
— Металл, кажется, недавно полировали? — заметил он.
— Это мой дедушка. Он ухаживает за могилами солдат. Он же повесил и вторую табличку. Понимаете, дедушка участвовал в Сопротивлении.
— Да что вы! Как его зовут?
— Клотэр Мартино.
— Жаль, что я с ним не знаком, — сказал Самуэль.
— Вы тоже были в Сопротивлении?
— Да, какое-то время.
— Тогда вы должны зайти к нам в гости и выпить рюмочку, мой дедушка будет рад вас видеть, мсье…
— Самуэль Мендель.
Девушка на секунду замерла, потом наклонилась, перечитав имя на табличке, и обернулась к нему с удивлением.
— Да, это я. Как видите, я не окончательно умер, — сказал Самуэль.
В итоге они вчетвером сидели на кухне соседнего дома, пили перно и ели багет с колбасками. Клотэр Мартино, низенький и круглый, обладатель громогласного смеха и чесночного запаха, крепко обнял приезжих, и был рад отвечать на расспросы Самуэля, которого он называл mon frère[20], и не уставал наполнять его стакан. Самуэль убедился, что Клотэр был не из числа тех героев, которые расплодились уже после Перемирия. Он слышал про сбитый возле деревни английский самолет, про спасение одного из летчиков, был знаком с двумя сельчанами, которые его прятали, и знал имена остальных. Француз слушал историю Самуэля, вытирая глаза и сморкаясь в тот же синий платок, который носил на шее и использовал, чтобы промокнуть пот на лбу или обтереть жирные руки. «У моего дедушки глаза всегда на мокром месте», — зачем-то пояснила внучка.
Самуэль сказал хозяину, что в Сопротивлении его имя было Жан Вальжан и что несколько месяцев он провел в помутнении рассудка, потому что ударился головой при падении из самолета, но постепенно воспоминания начали к нему возвращаться. В его голове жили размытые образы: большой дом, служанки в черных передниках и белых чепцах, но семью он не помнил. Он думал, что если после войны хоть что-то останется на своих местах, он отправится на поиски своих корней в Польшу, потому что на польском он складывал, вычитал, сквернословил и видел сны; где-то в этой стране должен был стоять дом, запечатлевшийся в его памяти.
— Мне пришлось дожидаться окончания войны, чтобы узнать собственное имя и судьбу моей семьи. В сорок четвертом году поражение немцев уже было предсказуемо, вы помните, мсье Мартино? Ситуация на Восточном фронте неожиданно перевернулась, чего никак не ожидали англичане с американцами. Они полагали, что Красная армия — это банды недисциплинированных крестьян, голодающих и плохо вооруженных, неспособных противостоять Гитлеру.
— Прекрасно помню, mon frère, — подхватил Мартино. — После битвы под Сталинградом миф о непобедимости Гитлера начал рассыпаться, и у нас появилась какая-то надежда. Нужно признать, именно русские сломили моральный дух и хребет немцам в тысяча девятьсот сорок третьем году.
— Поражение под Сталинградом заставило их откатиться до самого Берлина, — добавил Самуэль.
— А потом произошла высадка союзников в Нормандии, в июне сорок четвертого, а через два месяца освободили Париж. Ах! Это был незабываемый день!
— Я попал в плен. Мою группу уничтожило СС, и те мои товарищи, что выжили, получили по пуле в затылок, как только сдались. Я не попался случайно — уходил за едой. А лучше сказать — бегал по окрестным домам в поисках, чем бы поживиться. Мы даже собак и кошек ели — все, что ни попадалось.
Самуэль рассказывал, что эти месяцы войны были для него хуже всех. Одинокий, потерянный, голодный, без связи с Сопротивлением, он жил по ночам, питался червивой землей и ворованной едой, пока в конце сентября его не взяли. Четыре последующих месяца он провел на принудительных работах, сначала в Моновице, потом в Освенциме, где уже погибли миллион двести тысяч мужчин, женщин и детей. В январе, когда русские неотвратимо наступали, фашисты получили приказ избавиться от свидетелей происходившего в лагере. Узников вывели и отправили в путь по снегу, без зимней одежды и питания, в сторону Германии. Тех, кто остался в лагере из-за крайней слабости, следовало казнить, однако эсэсовцы, спеша унести ноги от русских, не успели уничтожить все следы, и семь тысяч узников остались живы. Среди них был и Самуэль.
(window.adrunTag = window.adrunTag || []).push({v: 1, el: 'adrun-4-390', c: 4, b: 390})— Не думаю, что русские шли с целью освободить нас, — объяснял Самуэль. — Войска Украинского фронта проходили рядом, они открыли ворота лагеря. Те из нас, кто еще мог передвигаться, выползли наружу. Никто нас не останавливал. Никто нам не помогал. Никто не предложил и куска хлеба. Нас отовсюду выгоняли.
— Я знаю, mon frère. Здесь, во Франции, никто не помогал евреям, говорю это с великим стыдом. Но подумайте: это ведь были ужасные времена, мы все голодали, а в таких обстоятельствах не до человечности.
— Палестинским сионистам тоже не нравились выжившие в концлагерях: мы были отбросами, непригодными для войны.
Самуэль рассказывал, что сионисты искали молодых, сильных, здоровых людей — отважных воинов, способных противостоять арабам, и упорных тружеников для обработки иссохшей земли. Но одним из немногих воспоминаний о прошлой жизни у Самуэля был полет, и это помогло ему эмигрировать. Он превратился в солдата, летчика и шпиона. Был телохранителем Бен Гуриона во время создания государства Израиль в 1948 году, а еще через год стал одним из первых агентов Моссада.
Брат с сестрой заночевали в деревенской гостинице, а на следующий день вернулись в Париж и полетели в Варшаву. В Польше они безрезультатно искали следы родителей; нашли только их имена в Еврейском фонде жертв Треблинки. Вместе прошли они по бывшему лагерю Освенцим, где Самуэль надеялся примириться с прошлым, но это оказалось паломничеством к его самым тяжелым кошмарам, только укрепившим уверенность, что человеческие существа — самые жестокие звери на земле.
— Немцы — это не раса психопатов, Альма. Это нормальные люди, как ты и я, но с фанатизмом, властью и безнаказанностью кто угодно может превратиться в зверя, как эсэсовцы в Освенциме, — сказал Самуэль.
— Ты думаешь, что в других обстоятельствах тоже вел бы себя как зверь?
— Я не думаю, Альма, я знаю. Я всю жизнь был военным. Участвовал в боевых действиях. Я допрашивал пленных. Многих пленных. Но мне кажется, детали ты знать не захочешь.
НАТАНИЭЛЬ
Тайный недуг, который в конце концов свел Натаниэля Беласко в могилу, выслеживал его многие годы, так что никто, и даже сам Натаниэль, об этом не догадывался. Первые симптомы совпали с эпидемией гриппа, которая в ту зиму обрушилась на жителей Сан-Франциско, и исчезли через две недели. Они вернулись лишь спустя много лет и принесли с собой страшную усталость: несколько дней адвокат еле волочил ноги и ходил сгорбившись, как будто тащил на спине мешок с песком. Натаниэль не уменьшил число своих рабочих часов, но время плохо ему поддавалось. Документы на письменном столе накапливались, как будто плодились и размножались по ночам. Натаниэль терял профессиональную хватку, теперь он старательно изучал дела, которые раньше сумел бы разрешить с закрытыми глазами, и мог напрочь забыть только что прочитанное. От бессонницы он страдал всю жизнь, сейчас же она осложнилась повышением температуры и холодным потом. «Мы оба вошли в тяжелый период менопаузы», — смеясь, говорил он Альме, но жену эта шутка не забавляла. Натаниэль перестал заниматься спортом, яхта простаивала на берету, и чайки вили в ней гнезда. Ему стало больно I питать, он начал терять вес, пропал аппетит. Альма взбивали мужу муссы с протеиновым порошком — он выпивал их через силу, а потом выблевывал тайком, чтобы она не видела. Когда на коже высыпали язвы, их семейный врач — такая же древняя реликвия, как мебель, купленная Исааком Беласко в 1914 году, последовательно лечивший Натаниэля от анемии, желудочной инфекции, мигрени и депрессии, — отправил его к специалисту-онкологу.
Перепуганная Альма осознала, как сильно любит Натаниэля, как нуждается в нем, и изготовилась дать бой болезни, судьбе, богам и дьяволам. Женщина оставила живопись, уволила помощников по мастерской и сама появлялась там только по разу в месяц, чтобы проверить работу уборщиц. Огромная студия, озаренная мутным светом, проникающим сквозь пыльные стекла, погрузилась в кладбищенский покой. Всякое движение внезапно оборвалось, и мастерская застыла во времени, готовая, как при стоп-кадре в кино, вернуться к жизни в любой момент; длинные столы были прикрыты полотном, рулоны ткани стояли столбиками, как стройные часовые, а другие, уже расписанные, висели на мольбертах, образцы рисунков и цветов смотрели со стен, повсюду были банки и бутылочки, валики, большие и малые кисти, упрямый бормотун-вентилятор бесперебойно гонял по воздуху стойкий аромат краски и растворителя.