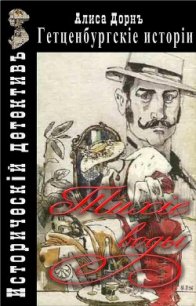Над бурей поднятый маяк (СИ) - Флетчер Бомонт (читать хорошую книгу txt) 📗
Дик хотел посмотреть ему в глаза, хотел спросить, бросая слова, как бросают перчатку. Хотел потребовать ответа: что ты сделал с моим другом, Марло, чем опоил его, чем заколдовал, что он стал таким же наглым, таким же развратным, таким же… бесстыдным, как и ты? Зачем ты сотворил это именно с Уиллом, разве мало тебе было других, тех, кто до сих пор бежит к тебе, стоит лишь поманить пальцем? Зачем отравил собой, так, что тот забыл дружбу, забыл семью и жену, так, что когда ты бросил его, выгнав из собственного дома, как шелудивого пса, он стал пустым. Зачем ты выпил его? И зачем, зачем, хочешь сотворить завтра что-то подобное со мной? Неужели мне мало Топклиффа, что я теперь должен терпеть еще и твои издевательства?
Дик хотел, сотня вопросов, упреков, гневных обвинений вертелась на языке, пока Марло выстанывал свои признания, но повернуться было страшно. И увидеть вновь то, что он уже видел, без гнева и омерзения вновь невозможно.
И самое главное — ведь теперь придется терпеть все это раз за разом, каждый раз, когда Марло вздумается унизить Уилла или показать свою власть над ним. А что, если он захочет и Дика — тоже, в конце концов, они ведь все хотят одного и того же, именно об этом предостерегал его папаша, именно от этого спасал, запрещая выходить на сцену в женских ролях, хотя Дик думал, что он мог быть в них так же хорош?
При одной мысли становилось тошно и неуютно, и бежать бы, куда глаза глядят, да как же — оставить Уилла, ведь Уилл бежит из-за него, из-за того, что Топклифф наигрался и теперь хочет примерно наказать свою игрушку? Уилл бежит, и Марло — тоже. Значит, он не так уж плох, как хочет казаться?
Мысли беспорядочно теснились в голове, не задерживаясь, а Марло, должно быть, почувствовал его смятение, потому что разошелся всерьез, и уже требовал, приказывал — Дику, обволакивая его словами, овладевая его мятущейся душой точно так же, как должно быть, до этого завладел Уилловой:
— Встань со своего насеста и поднеси плошку поближе.
— Вот еще, — фыркнул Дик, сразу трезвея. — Стану я потакать твоим прихотям. Ищи себе другого слугу.
И он обернулся, все-таки обернулся, чтобы увидеть, черт возьми, снова увидеть и услышать, как Марло со стоном вскидывает бедра, а Уилл наклоняется все ниже, чтобы забрать его член целиком.
— Как вы можете, ну как вы можете… — Дик опять схватился за голову. — Это же отвратительно, грязно, как его вообще можно брать в рот…
Ответом ему вновь был смех, и, перехватив лукавый, блестящий взгляд Уилла, Дик с ужасом понял, что смеялся отнюдь не Марло, Марло стонал, бесстыдно раздвигая ноги и вскидывая бедра — так, должно быть, стонала шлюха за стенкой совсем недавно.
А смеялся над его словами, над ним — Уилл.
***
Это могло бы закончиться быстро, слишком быстро — само присутствие Уилла, его прикосновения, его взгляд снизу вверх, и тут же — в сторону, его бурлящий от стольких переживаний и от смеха взгляд — в этом сосредоточилась жизнь Кита, его смерть, его удовольствие и недостижимое удовлетворение, похожее на конечную гибель.
Найдешь самое запретное из удовольствий, разломишь, как кровоточащий сладкими соками гранат, позволишь единственному его зернышку попасть в горло — и ступени станут вести только вниз.
Кит обхватил Уилла ладонями за скулы, медленно, мягко, но с железной уверенностью отрывая его от себя, как бинт, всохший в глубокую рану. Ключ был выбит из мертвой скалы — ударом трезубца, копытом чистой лани, великим деланьем, могущим происходить где угодно, всюду, где в удачном сочетании подбирались необходимые элементы. Любовь закровоточила с новой силой, все гранатовые плоды подземного Аидова царства были разломлены в сладострастной судороге, лопнули, как начиненные порохом и битыми гвоздями снаряды, лопнули шумом крови в ушах — от перезревания. Кит потянул Уилла на себя — и нашел губами его губы, безошибочно и крепко. Замыкая одну влагу другой. Чувствуя свой вкус, на губах разных людей — разный. Переплетая светлые волосы с темными, свет с тенью, смех с отчаяньем.
— Что ты хочешь сказать мне, Дик? — спрашивал Кит, с величайшей нежностью разглядывая затененное страстью, с мутными, все еще без толики понимания, зрачками, лицо Уилла, как величайшее из сокровищ мира. Целуя синяк, расплывшийся под глазом — плод греха только слаще, когда ему удается удариться о землю. Возвращаясь к губам, и тут же отстраняясь, чтобы выбросить еще одну пригоршню фраз. — Что ни одна женщина не доставляла тебе этой радости? Что кто-то из твоих прекрасных поклонниц пытался — о, не ври мне, что такого не было, что может быть желаннее, чем позволить самому Ричарду Третьему спустить себе в рот! — и ты останавливал их? «Не делай этого, Лиззи, не делай, Белла — ведь это так грязно, как вообще можно брать в рот мою грешную кочерыжку»?
Он изображал грех уныния, грех страха перед ближайшим, телесным, древним, как Слово, из которого вышел свет и мир. Вспоминал какие-то имена — некогда, еще совсем недавно, они имели смысл и жили своими жизнями. И тут же сбивался, потому что рядом был Уилл, и он смотрел, и позволял целовать себя, и целовал в ответ. И Кит пользовался этим — а Дик Бербедж вкладывал в это словечко совсем иной смысл. Кит пользовался, пока жизнь, клещами взявшая всех троих за глотку, прикорнула после бурной случки. Пока можно было, беззлобно озираясь и огрызаясь на попытки щенка укусить протянувшуюся через него тень, стиснуть колени на бурно ходящих, как у горячего коня, боках. Пока можно было — привстать, подчиняя ритму своего объятия, и тут же откинуться, притягивая за собой — и на себя.
Ненадолго.
Так ненадолго. Чтобы, прервавшись, продолжить — с еще большим пылом.
— Принеси мне плошку, Дик Бербедж, — повторил Кит уже жестче — жестче целуя, жестче проводя вдоль спины Уилла ногтями. Он не видел Дика. Дика не существовало. Наступала тьма, наступала музыка, звенящая внизу, и чьи-то шаги приближались по ту сторону хлипкой двери. — Принеси — если любишь своего друга Уилла…
***
Кит говорил, и целовал, и перемежал слова с поцелуями, не давая Уиллу опомниться, крепко натянув вожжи, как будто он был — ездоком. а Уилл не в меру разогнавшимся конем. Но так оно и было, думал Уилл с блуждающей улыбкой, вновь и вновь целуя Кита, не смея и не умея оторваться от его блестящих, уже покрасневших от поцелуев губ, любуясь рваным, видным даже в желтоватом, слабом и быстро блекнущем свете светца румянцем.
Иногда, скосив глаза в сторону, туда, откуда раздавался неуверенный, подавленный голос Дика, Уилл видел то его спину, то блестящие, несчастные глаза, то закушенную в смятении губу.
— Ну, вот еще, — говорил Дик, как всегда в моменты, когда был встревожен или расстроен, забирая вверх высоко, как будто был подростком. — Тоже мне, сравнил, Марло… Одно дело, когда это делает девушка… И совсем другое… — И он осекся, очевидно, понимая ту простую истину, что разницы никакой нет. Не только в том, что делал Уилл с Китом, а Дик — возможно, вероятно, и не один раз со своими поклонницами и с Китти, но и в самой любви. Любовь — одна для всех, как бы она ни называлась, — хотел сказать Уилл, но вместо этого целовал Кита снова и снова, и ловил его поцелуи — непривычно нежные, бережные, и — вдруг — вновь страстные и жгучие, будто кожу прижигали каленым клеймом.
Дик снова отворачивался, и снова его голос был несчастным и полным возмущения.
— Ну, твою мать, Марло, ну нравится это тебе, но Уилл тут причем… И я! Меня-то хоть не заставляйте смотреть на это. Даже если вам так уж приспичило, хотя вообще не понимаю, как можно… Думать, делать все эти ваши… гадости, когда нас того и гляди схватят, а если не схватят, то куда мы подадимся, нельзя никуда, повсюду же найдут… Не в лес же, не в разбойники…
Дик тоже розовел, заливался румянцем — от того, что ему довелось увидеть и услышать, и, наверное, от того, что еще предстояло. А еще больше — от того, что его тревожило.
Слова его лились бурным потоком, и, начавши, он, казалось, все никак не мог остановиться.