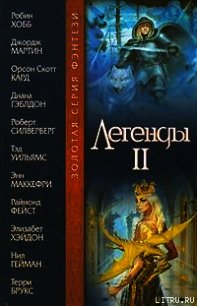Путешественница. Книга 1. Лабиринты судьбы - Гэблдон Диана (книга жизни txt) 📗
Для некоторых из предметов Брианны родство с ней было очевидным. Фотографии, на которых были изображены я, Фрэнк, Бозо, друзья. Фрагменты ткани отражали ее вкус, заставляя вспомнить ее любимые узоры и цвета — яркий бирюзовый, темный индиго, фуксин и ясный желтый. Но другие вещи? Почему россыпь ракушек на бюро говорит мне: «Брианна»? Чем примечателен округлый кусочек пемзы, подобранный на пляже в Труро и неотличимый от сотни тысяч других, кроме того факта, что его подобрала она?
Я с предметами обращаться не умела. Не было у меня тяги к приобретению. Пока Брианна не подросла и не взяла это дело в свои руки, Фрэнк частенько сетовал на спартанскую обстановку в доме. То ли виной этому было мое кочевое воспитание, то ли такова уж была моя натура, но я жила по большей части в собственной шкуре, не испытывая ни малейшей потребности изменить окружающую меня среду, сделав ее отражением моей личности.
Таким же был и Джейми. У него имелся постоянный небольшой набор предметов утилитарного характера или талисманов, которые находились при нем в его шотландской кожаной суме, до прочих же вещей ему просто не было дела. Даже в короткий период нашей богатой жизни в Париже и более протяженный, скромный, но безмятежный в Лаллиброхе он никогда не выказывал ни малейшей склонности к приобретению утвари или предметов обстановки.
На него, возможно, тоже повлияли обстоятельства его раннего возмужания, когда он жил, как загнанный зверь, и никогда не имел ничего, кроме оружия, без которого не выжил бы. Но не исключено и другое: эта изоляция от мира вещей, это ощущение самодостаточности были для него естественными. Возможно, вместо того чтобы заполнять мир предметами, мы оба, я и он, искали полноты и завершенности друг в друге.
И все равно странно, что Брианна, пусть очень по–разному, была так похожа на обоих своих отцов.
Я пожелала моей отсутствующей дочери доброй ночи и выключила свет.
В спальню я вошла с мыслью о Фрэнке. Вид большой двуспальной кровати, аккуратно застеленной темно–синим атласным покрывалом, напомнил о нем неожиданно и ярко, как я уже давно о нем не вспоминала.
Наверное, именно приближение возможного ухода и всколыхнуло во мне воспоминания. В этой комнате — фактически в этой постели — состоялось, можно сказать, наше прощание.
— Почему ты не ложишься спать, Клэр? Время уже за полночь.
Фрэнк посмотрел на меня поверх книги. Он уже лежал в постели и читал, примостив книгу на коленях. Мягкое озерцо света от лампы придавало ему такой вид, будто он безмятежно дрейфовал в круге тепла, изолированный от прохлады остальной комнаты. Начало января выдалось холодным, и хотя отопление работало в максимальном режиме, согреться ночью по–настоящему можно было, только забравшись в постель под тяжелые одеяла.
Я улыбнулась ему и поднялась с кресла, спустив с плеч тяжелый шерстяной халат.
— Я мешаю тебе заснуть? Прости. Я просто прокручиваю в голове свою утреннюю операцию.
— Да уж знаю, — сухо сказал он. — Это видно по твоему лицу. У тебя глаза остекленели и рот разинут.
— Прости, — повторила я так же сухо. — Я не виновата в том, как выглядит мое лицо, когда я думаю о работе.
— Но какой смысл об этом думать? — спросил он, вкладывая книгу закладку. — Ты сделала все, что могла, — твои переживания на этот счет ничего не изменят… Да что там!
Он раздраженно пожал плечами и закрыл книгу.
— Все это я уже говорил и раньше.
— Говорил, — согласилась я. Я забралась в постель, слегка дрожа, и обмотала халат вокруг ног.
Фрэнк машинально подался в моем направлении, и я скользнула под простыни рядом с ним: согревая друг друга, легче справиться с холодом.
— Ой, подожди, мне нужно переставить телефон.
Я откинула одеяла и выбралась наверх, чтобы переместить телефон со стороны Фрэнка на мою. Ему нравилось сидеть в кровати ранним вечером, болтая со студентами и коллегами, в то время как я читала или делала заметки по предстоящей операции рядом с ним, но он сердился, когда его будили поздние звонки из больницы, адресованные мне.
Причем так сердился, что мне пришлось договориться на работе насчет того, чтобы звонили мне только в самых экстренных случаях или когда я оставляла особые указания держать меня в курсе относительно состояния конкретного пациента. Сегодня вечером я как раз оставила подобные предписания: после сложной резекции на кишечнике существовала возможность осложнений, а стало быть, не исключалось, что мне придется срочно вернуться.
Фрэнк заворчал, когда я выключила свет и снова нырнула в постель, но вскоре придвинулся ко мне, забросив на меня руку. Я перекатилась на бок и свернулась клубочком возле него, постепенно расслабляясь, по мере оттаивания озябших пальцев моих ног.
Мысленно я проиграла детали операции, снова почувствовав в ногах холод операционной и одновременно беспокойное тепло в животе пациента, куда скользнули мои руки. Сама больная кишка, свернувшаяся кольцами, словно змея, была усеяна красными пятнами. Из крохотных прободений медленно сочилась яркая кровь.
— Я тут думал… — произнес в темноте Фрэнк как бы между делом.
— Мм?
Перед глазами у меня все еще была картина операции, но я постаралась вернуть себя в настоящее.
— О чем?
— О своем научном отпуске…
Его годичный отпуск в университете должен был начаться через месяц. Он планировал совершить ряд коротких поездок по северо–востоку Соединенных Штатов, собрать материал, потом на полгода поехать в Англию, а но возвращении провести оставшиеся три месяца за письменным столом.
— Я думал о том, чтобы сразу поехать в Англию, — осторожно сказал он.
— Ну что ж, почему бы и нет? Погода будет ужасной, но если ты большую часть времени будешь проводить в библиотеках…
— Я хочу взять с собой Брианну.
Я замерла, холод в комнате вдруг сконцентрировался в маленькой ледышке где–то в центре моего желудка.
— Она не может поехать сейчас, ей остался всего семестр до окончания. Уж конечно, ты можешь подождать до лета, когда мы обе к тебе приедем. У меня будет длительный отпуск и, может быть…
— Я еду сейчас. Навсегда. Без тебя.
Я отстранилась и села, включив свет. Фрэнк лежал и, прищурившись, смотрел на меня, темные волосы были растрепаны. Они поседели на висках, придавая ему импозантный вид, который, очевидно, оказывал волнующее воздействие на наиболее впечатлительных из его студенток. Я чувствовала себя на удивление спокойной.
— Но почему сейчас и так неожиданно? Твоя последняя пассия стала на тебя давить?
В его глазах вспыхнула паника, столь явная, что это было почти комичным. Я рассмеялась, правда не слишком весело.
— Ты действительно думал, что я не знаю? Господи, Фрэнк, до чего же ты рассеянный!
Он сел на кровати, сжав челюсти.
— Я был уверен, что вел себя скромно.
— Может быть, — язвительно заметила я. — Я насчитала шесть за последние десять лет — если их была примерно дюжина, ты и впрямь являл собой образец скромности.
На его лице редко отражались сильные чувства, но, судя по тому, как побелели его губы, я поняла, что он действительно очень зол.
— Эта, должно быть, представляет собой нечто особенное, — сказала я, сложив руки и опершись на изголовье с нарочитой небрежностью. — Но все же к чему такая спешка и зачем брать с собой Бри?
— Последний семестр она может проучиться в школе–интернате, — отрезал Фрэнк. — Наберется новых впечатлений.
— Думаю, это не те впечатления, к которым она стремится, — возразила я. — Вряд ли ей захочется разлучаться с друзьями перед окончанием. А уж учиться в английской школе–интернате…
Одна эта мысль вызвала у меня содрогание. Я сама в детстве едва избежала отправки в такую школу; запах больничного кафетерия порой вызывал воспоминания о ней и о волнах парализующей беспомощности, которые накатили на меня, когда дядя Лэм попытался пристроить меня в одно из подобных местечек.
— Немного дисциплины никому не повредит, — заявил Фрэнк. Он совладал с собой, но его лицо оставалось напряженным. — И тебе была бы от этого польза. — Он махнул рукой, отметая эту тему. — Ладно, давай начистоту. Я решил вернуться в Англию на постоянное место жительства. Мне предложили хорошую должность в Кембридже, и я согласился. Ты, конечно, свою больницу не бросишь. Но я не хочу оставлять свою дочь.