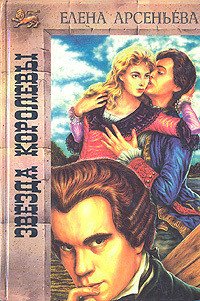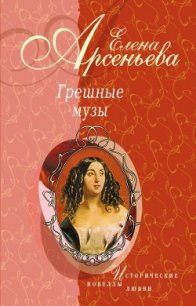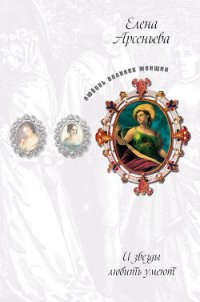Бог войны и любви - Арсеньева Елена (лучшие книги читать онлайн бесплатно без регистрации TXT) 📗
Ангелина опешила:
— А при чем тут ребенок?
Теперь пришел черед опешить нотариусу:
— Да разве не Оливье — его отец?
— Господи помилуй! — с искренним негодованием всплеснула руками Ангелина.
С новым Оливье она не хотела иметь ничего общего. И память о единственном человеке, который принадлежал в ее жизни прошлому, настоящему и будущему, подсказала ей искренний и в то же время уклончивый ответ:
— Слишком страшный был путь, приведший меня сюда. Однако того, кого я любила всем сердцем, я не забуду никогда.
Де Мон пристально вгляделся в ее лицо, и оба подумали об одном и том же: они почти ничего не знают друг о друге, хотя их пути так странно переплелись и даже слились. Ну как рассказать ему? Пришлось бы заглянуть в такие неизмеримые глубины! Хотя… хотя это не столь сложно, как представляется, ведь де Мон и сам явился к ней из тех же глубин времени, но не для того, чтобы отомстить — чтобы спасти!
— Скажите, — проговорила Ангелина, резко подавшись вперед, и голос ее дрогнул, — вы знали в 1789 году — или чуть позже — в Париже графиню Гизеллу д'Армонти?
Де Мон нахмурился, вспоминая:
— Много слышал о ней, но никогда не видел. Зато был шапочно знаком с ее братом, маркизом Сильвестром Шалопаи. Вот это был красавец! У дам при виде его просто ноги подкашивались. — И тут же он смущенно закашлялся: интересно, знает ли Ангелина, что баронесса Корф, ее мать, была одной из этих дам? Что-то в напряженной позе Ангелины подсказало ему: да, знает. Ну и хорошо же будет он выглядеть через несколько дней в глазах Марии Корф, когда та узнает, о чем он беседовал с ее дочерью! И де Мон поспешил заговорить о другом: — Графиня д'Армонти была весьма любвеобильна. Поговаривали, она жаловала и республиканцев, и роялистов одновременно. Я слышал, что, когда одного из ее любовников заключили в Тампль и приговорили к гильотине, она отдалась прямо в тюремном коридоре чуть ли не взводу охранников, чтобы пробраться к нему в камеру и напоследок напомнить, какого цвета ее мех… О-о, ч-черт! — У нотариуса даже голос пропал. — Простите, ради Бога, простите, дитя мое! Я так живо вспомнил то время — пору моей молодости, — что, забывшись, употребил выражение, весьма часто нами тогда используемое. Умоляю вас…
— Ничего, сударь, — кивнула Ангелина. — Я все понимаю и ничуть не в обиде на вас. Но расскажите: удалось это графине? Я хочу сказать… — теперь начала запинаться она, — удалось ей пробраться в каземат?..
— Дело в том, что эта камера была отделена от коридора не глухой стеной, а всего лишь решеткой, — пояснил нотариус. — И любовник графини мог издали видеть и слышать все, так сказать, ее приключения на пути к нему. Он оказался человеком брезгливым и не пожелал быть десятым или одиннадцатым посетителем этого розового грота. — Тут нотариус опять извинился. — Графиня, разумеется, сочла себя оскорбленной. Она плюнула на своего любовника и предложила себя его товарищам по заключению. Однако ни один из них, несмотря на долгое воздержание и красоту дамы, не увидел в этом желанного вознаграждения. Все как один отказались. Тогда графиня засмеялась, задрала юбки и улеглась прямо возле решетки, пригласив охрану на второй заход. Таким образом она хотела отомстить своему бывшему любовнику, но не рассчитала пыла тюремщиков. Говорят, дело дошло и до третьего рейда. В конце концов доблестная дама лишилась чувств, потеряв счет своим визитерам, да так и валялась в коридоре Тампля с задранной юбкой. И никто, даже насытившиеся охранники, не подавал ей помощи, пока она не пришла в себя и кое-как не убралась восвояси. Потом графиня будто бы долго болела — и как-то сошла со сцены. Еще я слышал, будто она тяжело переживала гибель своего брата на какой-то таинственной дуэли, но я не очень был озабочен ее судьбой, да и судьбами других людей… только своей.
В голосе его, в котором только что звучали игривые до непристойности нотки, вдруг прорезалась такая боль, что Ангелина невольно коснулась его руки:
— Что с вами… Ксавьер? — Она даже не заметила, как назвала своего супруга по имени, так хотела успокоить, ободрить его.
— Не стоило мне вспоминать! — Нотариус вскочил и принялся ходить по тесной — три шага туда, три обратно — каморке. — Это слишком больно, слишком мучительно!
— Успокойтесь, — растерянно пробормотала Ангелина. — Я не хотела, поверьте…
— Я не говорил об этом ни с кем, никогда! Вот уже двадцать лет, как я боюсь обмолвиться об этом, боюсь, что не выдержу воспоминаний!.. О, зачем, зачем из пустого любопытства вы разожгли это пламя, которое я считал надежно похороненным под слоем пепла?! — выкрикнул он, и Ангелина не узнала своего всегда такого спокойного, мудрого, ироничного супруга. Сейчас перед ней стоял человек, измученный беспрестанным, хотя и тщательно скрываемым страданием, и она осторожно взяла его руку:
— Расскажите мне… Вы слишком долго молчали. Клянусь, вам станет легче!
— Дитя! — фыркнул де Мон. — Что вы, легкомысленная, легковерная женщина, знаете о любви, о жизни, о смерти? Разве вы способны понять, что это такое — видеть казнь своей возлюбленной?
— Могу, — глухо проговорила Ангелина. — Мой возлюбленный, мой истинный супруг, отец моего ребенка (сейчас она не сомневалась в этом!) был расстрелян у меня на глазах.
И замерла, раненная в самое сердце страшными воспоминаниями. Так они и сидели рядом — два измученных, страдающих человека, — пока де Мон наконец не заговорил:
— Красная гвоздика всегда играла во Франции особую роль. Наполеон всего лишь украл этот символ, а ведь еще со времен Фронды она служила знаком приверженности дому Бурбонов и вообще королевскому дому. Особенно эту последнюю роль она стала играть во времена революции, когда невинные жертвы террора, идя на эшафот, украшали себя красной гвоздикой, желая показать, что они умирают за своего короля и бесстрашно смотрят в глаза смерти. О, история дикарей и антропофагов не знает столь варварских и диких сцен, как эта революция! В то страшное время цветок этот носил название oeillet d'horreur — гвоздика ужаса. Да, теперь роялисты избрали белую гвоздику своим знаком, ибо корсиканец присвоил красную, но в то время, повторяю… Да, в то время я был еще не стар: пятьдесят — это не возраст для мужчины, тем более если он влюблен впервые в жизни. У меня было множество женщин, но только одна поразила мое сердце любовью. Я встретил ее поздно — что ж, тем больше имелось оснований, чтобы никогда не расставаться с нею. Она была много моложе меня, она мне и вернула молодость. Так, как любил я, любят лишь раз в жизни, да и то не каждый. Тогда в моде были маленькие, пухленькие женщины, которых называли «перепелочками». Она же была другая: высокая, изящная и такая тоненькая, что я мог бы обхватить ее талию пальцами одной руки, клянусь! Ее звали Иллет — Гвоздика, и в тот роковой день, когда ей исполнилось двадцать пять, она украсила себя красной гвоздикой — просто знаком своего имени. Она не знала, что как раз за день до того был казнен один из невинных, который, перед тем как положить голову на плаху, бросил в толпу красную гвоздику и крикнул: «Этот цветок погубит кровавого тирана!» Возможно, он был провидец, а может, безумец, достаточно того, что его слова кто-то запомнил, а увидев мою Иллет с красною гвоздикой, донес на нее как на пособницу смутьянов-аристократов. Она и впрямь была аристократкой из прекрасной семьи — и вся эта семья теперь была обречена. Они встретили свою участь достойно — и в один страшный день все вместе взошли на эшафот.
— А… вы? — робко спросила Ангелина. — Вы не смогли ее спасти?
— Не смог. Не смог, хотя, Бог тому свидетель, я отдал все свои деньги на подкуп судей, я пытался организовать налет на тюрьму, я… да что говорить! — Он ожесточенно махнул рукою. — Иллет была обречена — все мои начинания провалились одно за другим, словно злой рок преследовал меня. Мне осталось одно, последнее средство — умереть вместе с ней. Тогда это было просто. Достаточно было крикнуть погромче: «Да здравствует король!» — и человека тотчас отправляли на тележке на эшафот. Я выведал, когда должны казнить Иллет, и пробрался на площадь, к тому времени уже запруженную народом: враз должны были лишить жизни десять или двадцать человек — волнующее зрелище для опившихся крови простолюдинов! Я смотрел на Иллет. Она стояла спокойно, не дрогнула, когда умирали ее друзья. Но вот на плаху потащили ее отца — и Иллет вскрикнула: следующая была ее очередь. Она стала озираться. Я понял: она искала меня — я закричал… нет, это лишь казалось, будто я кричу: «Да здравствует король! Смерть кровавым тиранам!» — а на самом деле из моего горла вырывалось лишь слабое сипение: от напряжения, от страданий у меня начисто пропал голос. «И все-таки я умру вместе с тобой, моя любимая!» — подумал я и бросился вперед… но тщетно силился пробраться сквозь толпу: эти мускулистые кузнецы и ремесленники, их толстомясые жены свирепо рвались ближе, ближе к эшафоту; они сгрудились так, что давили друг друга, но каждый старался пробраться вперед, чтобы увидеть, как скосит лезвие кровавой Луизы [109] голову аристократа… и еще одну, и еще, и еще! Я пустил в ход кулаки — молча, ибо по-прежнему не мог ничего сказать. Я дрался, я рвался вперед и так разъярил стоящих вокруг, что чей-то огромный кулак опустился на мою голову — и я лишился сознания, успев увидеть светлые волосы Иллет, стиснутые окровавленными пальцами палача, когда он показывал толпе ее отрубленную голову.
109
Так парижане прозвали гильотину в годы террора.