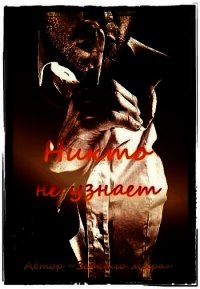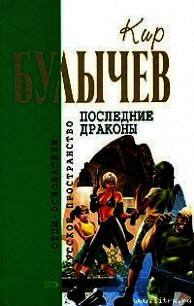Покаянный канон: жертвенница - Лавленцев Игорь (книги онлайн бесплатно без регистрации полностью txt) 📗
Дома у нас, в отличие от церкви, собралось достаточно много народу, было по-настоящему шумно и весело. Было много прекрасных и, вероятно, весьма дорогих в это время цветов. Было в избытке искренних поздравлений и столько добрых пожеланий, что не оставалось ни малейшего сомнения в их самом скором воплощении в жизнь.
Лаврентий был, как всегда и даже более, хорош и остроумен, по-настоящему радуясь роли радушного, хлебосольного хозяина. И я, сидя рядом с ним, почувствовала себя его женой…
Но свадьба наша закончилась, а дальше, исподволь и почти незаметно, как наступление ползучей плесени, началось то, о чем я не хотела бы теперь вспоминать, тем более рассказывать. Но совершенно очевидно, что любое умолчание в нашей истории, даже самое незначительное, лишит ее изначального истинного смысла, всякой достоверности.
Нет, все случилось не в один день. Еще долго мы были искренне счастливы, а затем еще дольше пытались таковыми быть…
Длительное пребывание в больнице практически истощило невеликие финансовые запасы Лаврентия. Свадьба и неразумно дорогие, на мой взгляд, подарки мне фактически подвели черту под всеми сбережениями, под всем, что Лаврентий заработал прежде.
— Перестань суетиться, — успокаивал он меня. — Ты же видишь, сколько у меня друзей и какие это люди. В самое ближайшее время у меня будут нормальные заработки.
Хотя суетился скорее он сам, и слова его, по большому счету, были обращены к себе самому. Он беспрестанно сидел у телефона, обговаривал с кем-то всевозможные варианты постоянной работы или каких-то временных заработков.
— Ну вот видишь, — говорил он мне после очередного звонка. — Практически все устроено, осталось уточнить формальности.
Вечером приходили люди, и за столом с непременной водкой уточнялись формальности. Эти люди приходили еще несколько раз или не приходили совсем. Лаврентий вновь звонил, и появлялись другие гости.
Изначальная уверенность его в благополучном разрешении всех проблем, которая на первых порах передавалась и мне, постепенно сходила на нет. Когда я приходила домой с работы, он все чаще не встречал меня, как прежде, с радостной улыбкой, а угрюмо сидел у окна с пепельницей, переполненной окурками.
А «уточнение формальностей» за пьяным столом продолжалось меж тем едва ли не через день. Были убедительного вида люди, ищущие головастого менеджера какой-то фирмы. Были неубедительного вида журналисты и писатели, которых Лаврентий называл «лучшими перьями» области, и за столом горячо, бестолково и сбивчиво обсуждались планы издания какой-то новой газеты или журнала.
Были актеры из областного театра, пившие пуще всех остальных и с фальшивой мудростью в голосе читавшие стихи Лаврентия вперемежку с Пастернаком и Мандельштамом. Лаврентий рассказал им замыслы своей новой пьесы, импровизируя в лицах. Они называли замыслы гениальными, обещали пьесе бешеный успех и исчезали, как все остальные.
Была одна очень некрасивая и очень скромная девушка из редакции областного радио, вероятно, давняя почитательница Лаврентия. Она приходила раз или два в месяц, стараясь не попасть к очередному застолью, приносила с собой диктофон.
Лаврентий наговаривал на пленку какие-нибудь старые стихи или рассказы и едва ли не выпроваживал гостью за дверь, часто забыв попрощаться. К этому времени он уже пребывал во вполне определенном состоянии, вернее, в одном из двух: либо в бессмысленно феерическом опьянении, либо в депрессивном похмелье.
Девушка с радио, пытаясь избежать первого, чаще всего попадала на второе. А наговоренные тексты Лаврентия, в меру отредактированные и украшенные музыкой, меж тем выходили в эфир, за что он получал сравнительно небольшие, но регулярные и весьма необходимые нам деньги. Впрочем, большая часть из них уходила на все то же уточнение «формальностей».
Я пыталась объяснить Лаврентию, убедить его, что хлопоты его излишни, не решаясь ему в обиду назвать их пустыми и губительными. Я старалась уверить его в том, что если не тратить столько денег на водку, на угощение напрасных людей, то его пенсии и моей зарплаты нам хватит на скромную, но вполне достойную жизнь, а умеренным усердием в его непосредственном деле, литературном творчестве, можно зарабатывать на какие-то небольшие семейные радости.
Но его ощущение себя сильной личностью в ядовитой смеси с обретаемым рядом со мной и необъяснимым для меня комплексом вины не позволяло ему смириться, превращая в слабого, мятущегося неврастеника.
Рассматривать свое писательство как ремесло ему просто не приходило в голову, он привык обеспечивать себя иной работой. Он продолжал уверять меня, что непременно все получится, что все уже на подходе и осталось уточнить формальности…
Так прошла зима. Лаврентий уже почти не пытался оправдать какой-то необходимостью регулярные пьянки, устраивавшиеся в нашем доме. Теперь чаще всего на его звонки по телефону ему отвечали, что того или иного нет на месте, он занят, не может подойти… Да и звонил он теперь чаще всего для того, чтобы изловить того или иного из оставшихся непритязательных знакомцев, способных принести ему водку.
С наступлением тепла Лаврентий вновь стал выбираться на улицу. Приходя домой, я не заставала его, он появлялся под вечер в приподнято-пьяном настроении, полный новых несбыточных идей и замыслов.
Ему совсем недолго оставалось до того, чтобы превратиться в изгоя, разъезжающего на своей коляске по людным местам, клянча алкогольную подачку. На моих глазах погибал самый близкий, безмерно дорогой мне человек, и я была практически не в силах его спасти.
Я словно жила в страшном сне о некогда бывшей со мной страшной яви, или, скорее, давний страшный сон предстал предо мною в непомерно более ужасной действительности. Но тогда это были я и кто-то… А теперь это были я и он, мой Лаврентий, мой суженый перед Богом, часть моей плоти, отрываемая от меня с адской невыносимой болью.
Порою я ловила себя на страшной мысли: лучше бы он стал еще большим инвалидом, лучше бы он был прикован к своей кровати, был бы моим, как там, в больнице. Все заботы по уходу за ним представлялись мне радостным избавлением от нынешнего кошмара.
Не зная, что предпринять, ища какой-то выход, я пошла к венчавшему нас отцу Науму и слезно просила его поговорить с Лаврентием. Он пришел на следующий же день, я оставила их вдвоем, вышла на улицу, чтобы подождать батюшку возле дома.
Беседовали они около двух часов. Отец Наум вышел из подъезда, присел рядом со мной на лавочке и какое-то время молчал.
— Его губит самый страшный грех — гордыня, — сказал он наконец, печально покачав головой. — Он воспринимает тебя в равной степени и как жену, и как своего ребенка с проистекающей из этого полной ответственностью за тебя. Смириться же с мыслью, что вы в равной степени ответственны друг за друга, он не может.
Помолчав еще какое-то время, он продолжил:
— Может быть, для него было бы лучше, если бы вы не встречались вовсе и он жил один. Но теперь тебе нельзя его оставлять. В этом случае его ожидает очень скорая гибель. Хорошо бы вам вместе съездить в монастырь. На неделю, на месяц, чем дольше, тем лучше. В Санаксарах есть чудесный, благодатный старец, он мог бы утешить и вразумить Лаврентия. Может быть, к осени, Бог даст, я сумею устроить вам поездку туда. А пока напишу письмо старцу, он будет молиться за вас.
— А что же мне делать сейчас? — спросила я. — Ведь до осени еще так далеко.
— Ты же наберись терпения, — ответил отец Наум. — Живи с ним, люби его, вселяй в него надежду, а главное — веру. Недаром же ты крещена Верою.
— Ну что вы, отец Наум, — отвечала я сквозь слезы. — Я никогда не смогу его оставить, ни на один день. Ведь он для меня отчасти тоже как ребенок. Большой, неразумный, дерзкий ребенок…
После беседы с отцом Наумом Лаврентий какое-то время не пил. Он заперся дома, отключил телефон, засел за свою некогда брошенную повесть. Приходя домой, я опять видела на его лице прежнюю спокойную улыбку. Краешек солнца, казалось, вновь появился над нашим горизонтом. Лаврентий был нежен и ласков со мной, как если бы мы встретились после долгой разлуки. Я же будто замерла в оцепенении этого покоя, порой мне казалось, что я боюсь сказать какое-то ненужное слово, сделать лишнее движение, просто резко вздохнуть, чтобы случайно не оборвать эту прорастающую исподволь тонкую ниточку надежды.