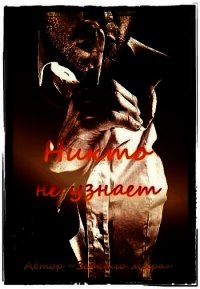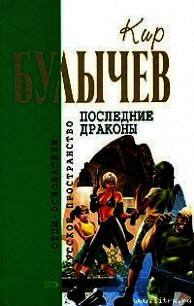Покаянный канон: жертвенница - Лавленцев Игорь (книги онлайн бесплатно без регистрации полностью txt) 📗
— Привет, Ольга. Это Лаврентий. Берта не у тебя?
— У меня, — после некоторой паузы ответила Ольга. — И хорошо, что у меня, давно ей надо было быть у меня. И без того чересчур затянулась эта ее авантюра. Разве ты рассчитывал на другой исход вашей затеи? Тебе давно следовало бы понять, что вы с ней совсем не пара. Пока, Лаврентий, с тобой разговаривать она не хочет.
И бросила трубку.
Все это, еще не до конца осознанное на фоне жесточайшего похмелья, было ужасным. Моему существованию настал конец. Как-то иначе воспринять происходящее я был не в состоянии.
Я беспрестанно курил. Безысходность положения вырисовывалась все более явственно и однозначно. На пятой сигарете накатила тошнота и резко заболело сердце.
Мне было плохо, плохо без нее, без ее маленьких рук, гладящих мою беспутную голову. И в этой голове была только одна мысль, мысль о том, что так плохо будет всегда, потому что она ушла навсегда, потому что я остался навсегда без нее, без моей Берты.
Я принес с кухни нож, снял со стены свою старенькую обшарпанную гитару. Подковырнув ножом заднюю деку, с небольшим усилием я оторвал ее. К передней деке полосами скотча был прилеплен достаточно объемный пакет, в котором лежал пистолет ТТ и десяток стодолларовых купюр. Хороший тайник, весьма оригинальный. Висит себе старая гитара без половины струн, кому, скажите, пожалуйста, придет мысль о какой-либо функциональности подобной штуковины? И в руки-то никто не возьмет.
Пистолет я приобрел в Прибалтике года три назад в один из своих автотуров. Подвернулся весьма недорого, а подумать о риске, об опасности при проверке на границе не хватило ума. Да, впрочем, и риска никакого не было. Погранцы и таможенники были уже хорошо знакомы, и взаимовыгодная проверка проходила по налаженной схеме, без неожиданностей.
А «штука» баксов была неприкосновенным запасом на черный, уж на самый что ни самый черный день. Об этом легкомысленном хранилище и его содержимом кроме меня знала только Берта.
Я взял чистый лист бумаги и, сдерживая похмельную дрожь в пальцах, надписал: «Берте…»
Ах, поэты! Ах, витии! Тщеславные дети, до конца верящие в потустороннее созерцание своего трагического красивого ухода. Даже в этой ситуации написать тривиальную записку я был не в состоянии, а беспардонная муза способна напроситься в гости в самых, казалось бы, неподходящих для этого обстоятельствах.
Стихотворение написалось на одном дыхании, без исправлений. Это были последние стихи не только из трех, написанных для нее, но и последние вообще.
Больше стихов я никогда не писал и навряд ли когда-нибудь вновь вознамерюсь излить душу рифмованными строками. Слишком многое с тех пор переменилось в моей душе.
Пистолет был еще в заводской смазке с полной обоймой маленьких блекло-желтых патронов. Почему-то подумалось, что могут остаться масляные пятна на рубашке. Я поместил пистолет обратно в пакет и сунул за пазуху. Деньги я положил поверх листка со стихотворением.
До своей роковой аварии пробавлялся я околоавтомобильным бизнесом, собирая с небольшой группкой компаньонов заказы и доставляя несколько раз в год из Прибалтики и Белоруссии сначала реэкспортные «Жигули», потом подержанные «гольфы» и «пассаты». Процентов двадцать из дохода оставлялись тамошней братве, процентов двадцать платили братве, контролировавшей местный авторынок.
Оставшихся шестидесяти процентов хватало на оборотные вложения и на собственную вполне сносную жизнь. Можно было бы, впав в окончательное жлобство, зарабатывать гораздо больше, но впадать не хотелось. Хотелось оставить время для созерцания природы, людей и себя, для фиксации моментов этого созерцания в виде стихов, рассказов.
Плоды моих литературных трудов время от времени печатались в центральных и местных изданиях, что можно было бы считать неким подобием их объективной оценки. Изредка выходили сборники, книжицы, что давало ощущение какой-никакой душевной самореализации и позволяло мне считать себя человеком отчасти разумным.
Стояла настоящая летняя жара. На небольшой улочке, ведущей к реке, наблюдался достаточно плотный поток измученных за неделю этой жарой и пылью горожан.
Коляска под уклон катила легко и весело, требуя моих усилий разве что для сохранения общего курса и объезда многочисленных колдыбачин. Подумалось о скудости городской казны, о нехватке средств в мэрском бюджете на ремонт таких вот тихих, окраинных улочек.
Чернявый круглощекий мальчуган лет четырех, увидев меня, выставил вперед ручонку и в совершеннейшем восторге закричал неожиданно густым и довольно низким голосом:
— Мама! Мамочка, смотри, какой у дяди велосипед! Совсем ручной!
Я притормозил:
— Ну, садись, подвезу.
Пацан в мгновение ока вскочил на подножку и, как Гагарин, оглушительно заорал мне прямо в ухо:
— Поехали!
Краем глаза я заметил его маму. Она неторопливо ступала, о чем-то мирно беседуя с такой же большой, объемной, как и сама, попутчицей. Но все это просто промелькнуло, поскольку я уже ехал, и ехал довольно быстро, подгоняемый мальчишкой, который, вцепившись в подлокотники, стоя ко мне лицом и спиной к движению, беспрестанно кричал:
— Дядя, быстрей! Еще быстрее!
— Эй, гражданин! Вы куда? — наконец раздалось сзади. — Стойте, гражданин! Остановитесь!
Глаза мальчишки округлились, выражение лица наполнилось новым восторгом. Похоже, он опять узрел нечто неожиданное, никогда прежде не виданное.
— Мама бежит… — на этот раз не прокричал, а скорее прошептал он.
Я не видел, как бежала мама, но представить себе, как может выглядеть бегущая пышнотелая тридцатилетняя матрона, было нетрудно. Я искренне пожалел о свой легкомысленной затее и резко остановился.
Дождался, мамы стали бояться! Видно, морда та еще, хорошо, что дети не шарахаются. Так вот я ехал, и так вот я думал, и таким вот, представьте, образом жалость к себе потихоньку стала замещаться злобой на себя же.
Зеленые берега нашей небольшой реки в этот довольно ранний час были облеплены розовыми телами загорающих и купающихся. Через подвесной пешеходный мост, прекрасно и полностью видимый с того места, куда я выехал на Набережную, перетекал непрерывный людской поток.
Я стоял на мосту, подъехав к перилам, и курил четвертую сигарету подряд и последнюю в пачке. Злость на себя нарастала.
От конца моста приближалась мамаша, и у меня появилось вполне резонное, оправданное желание укатить, избегая материнских упреков в моем взрослом недомыслии. Но…
Но лицо мамы было исполнено таким восторгом, что двинуться прочь ввиду столь сияющего обаяния было бы верхом невоспитанности и дурного тона.
— Здравствуйте! — Женщина едва не заключила меня в объятия. — А я вас сразу узнала, а потом думаю, нет, я, наверное, ошиблась, а потом думаю, да нет, это, конечно же, вы. Вы же Лаврентий, Лаврик Егоров!
Боже мой, меня стали узнавать на улице! Может быть, жизнь не так уж плоха, может быть, все еще только начинается…
— Вы не помните меня? — щебетала над моей головой женщина. Она была весьма недурна собой, разве что излишне полна, но это не слишком ее портило.
— Я Ирина, Ирина Попова, мы с вами вместе учились в школе!