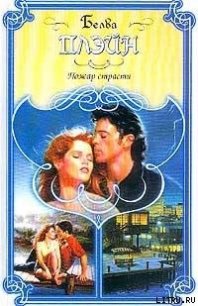Тщеславие - Лебедева Виктория (читаем книги онлайн бесплатно без регистрации .txt, .fb2) 📗
И еще — я больше никогда не пыталась привлечь никого, кроме Славы, при помощи своего «творчества». Даже потом, когда я стала заниматься литературой профессионально, эта мысль не приходила мне в голову. Я раз и навсегда убедилась, что рифмы не такое уж действенное оружие. (Та тетрадка, без обложки, с порыжелыми от времени страницами, по сю пору хранится у меня в нижнем ящике письменного стола под пачкой других рукописей и служит мне примером того, как не надо писать.)
А внешне? Внешне все осталось как было, и мы считались неразлучной парочкой вроде «Твикса». По-прежнему много общались, и Слава большую часть рабочего дня проводил на моем участке. Вот только неуловимо изменилась атмосфера наших, прежде воздушно легких и солнечных, бесед.
Я наблюдала за ним и уже начинала понимать, что он вовсе не такой, каким я его себе представляла. Раньше мне казалось, что его исключительно дружелюбное отношение ко всем на свете шло от наивности, теперь же я была почти уверена, что источником его была крайняя степень эгоизма, та его разновидность, которая бывает свойственна маленьким детям. Дело даже не в том, что дети всегда хотят получить желаемое сию минуту и целиком, нет; но детям всегда кажется, будто все, что приятно им, обязательно должно так же искренне нравиться и всем окружающим, даже если они собираются покрасить гуашью новенькие обои в зале или сигануть с балкона, вооружившись папиным зонтом. Вот и Слава вел себя соответственно — приглашал меня порадоваться его счастью.
Он говорил теперь только на одну тему, и этой темой была Татьяна. Казалось, будто он все время мысленно скачет на одной ножке от избытка энергии, его лицо светилось изнутри подобно стосвечовой лампочке, и тонкие губы — дрожащие нити накаливания — поминутно складывались в ясную, слишком ясную улыбку.
Он рассказывал о том, с какой нежностью она смотрит, принимая из его рук очередной букет, как непринужденно она смеется, о том, какие у нее великолепные волосы, какие у нее изящные руки, и еще многое в том же роде. Он рассказывал, как проходят репетиции, как она водила его на закрытый, только для избранных, спектакль в одну элитарную театральную студию; как она приглашала его к себе, в свою огромную квартиру (в самом центре города, в сером доме на набережной) на чай и познакомила со своим четырнадцатилетним сыном и как он, Слава, заблудился в темном коридоре на пути из прихожей в кухню. Он мог часами говорить про маски, костюмы и декорации. Но не напрямую — это были не просто маска или костюм, а Татьяна в маске или костюме, это были не просто декорации, а Татьяна на фоне декораций. При этом он часто повторялся, как могут повторяться только слепо влюбленные люди, и сам не замечал этих повторений.
А я сидела напротив и старалась не смотреть в глаза; свивала в тонкие косички обрывки проводков или нарезала их кусачками на мелкие розовые иглы. Изредка, из вежливости, поднимала взгляд, но не выше Славиного плеча, и наблюдала, как по плечу разбегается Челленджер, покушаясь на маленькую серебряную серьгу, которой Слава обзавелся зимой; тихо злорадствовала, когда Челленджер гадил Славе на халат.
Мне было тяжело его слушать.
Но Слава, по обыкновению, этого не понимал. Он приходил, усаживался на стол с заговорщическим видом и начинал свое бесконечное, на одном месте топчущееся повествование, он смеялся чисто и восторженно, припоминая всё новые и новые подробности, мельчайшие, одному ему известные детали: с точностью до слова, до жеста. И уже через пятнадцать минут хотелось заткнуть уши, а через тридцать возникало жгучее желание взять какой-нибудь предмет побольше и поувесистее, швабру, например, или шаблон для вязки схем, и с силой ударить им по Славиной сияющей улыбке. Но вместо этого я почему-то кивала ему, сочувственно и понимающе, и пыталась выдавить из себя пару-тройку бодрых, ничего не значащих слов. Я перестала говорить о том, что действительно думаю, и тем более о том, что чувствую; к его приходу на моем лице всегда застывала натужная гримаса отвлеченного интереса. Я старалась казаться другом.
А вечером я ехала домой в электричке, залитой перегаром, и гримаса интереса постепенно стиралась, и вымученная дневная улыбка переворачивалась вверх ногами.
На станции царил романтический полумрак, новорожденные яркие листья били зеленью по глазам, и тяжело дышалось от смешанных в весеннем воздухе ароматов цветения. Я приходила домой; потихонечку, чтобы, не дай Бог, не помешать просмотру очередного сериала, отпирала дверь, полушепотом бросала маме: «Привет. Устала как собака», — и на цыпочках проскальзывала на кухню, где некоторое время ковыряла вилкой остывший ужин (большая часть ужина отправлялась обычно в мусорное ведро). А потом я запиралась в ванной и подолгу плакала под шум бегущей воды.
Когда я наконец выходила, мама, уже закончившая очередной просмотр, без особого интереса спрашивала, отчего у меня красные глаза, и я отвечала ей, что в глаза опять попал шампунь (думаю, этот ответ полностью устраивал нас обеих), а потом мы расходились по постелям.
Меня доканывала одна и та же мысль: почему все получилось так? Да, наверное, я была виновата, ну зачем я бегала от него так долго, зачем я его все время игнорировала и, как могла, обделяла вниманием? Да, наверное, я получила по заслугам. Да, я упустила какой-то очень важный момент. Потом приступ самоедства проходил, и меня заполняло желание вернуть все назад, «отмотаться» и опять относиться к Славе с прежним презрением. Я нарочно старалась подметить в нем любые, даже самые незначительные недостатки и мысленно уговаривала себя, любимую: да Бог с ним, да не очень-то и хотелось, да он не достоин, и вообще я блондинов не люблю; но уговоры не помогали, как не помогли еще никому в похожей ситуации.
Я снова проклинала Славу за его непонятливость, теперь по иным причинам, я временами срывалась, я старалась нарочно разозлить его или сказать что-нибудь едкое, чтобы он обиделся и ушел и перестал меня мучить своими рассказами о Татьяне; я начала цепляться к мелочам и дуться на эти же самые мелочи. Но ничего не выходило — Слава не принимал обиды и с ним было абсолютно невозможно поссориться просто так, из-за ерунды, без объяснений. Он, как все влюбленные, как все эгоисты, как все влюбленные эгоисты, пропускал мои шпильки мимо ушей и не составлял себе труда обращать на них внимание, как и на все мои мелкие обиды. Он вообще не замечал, что я обижаюсь.
Он не оставил мне выбора — я старалась казаться другом. И я им казалась.
Это была странная игра.
Глава 7
А еще эта игра была утомительной. Мне едва исполнилось девятнадцать лет, и хроническое удержание эмоций в жестких рамках давалось с огромным трудом.
За каких-нибудь полтора месяца я сделалась нервной и угрюмой, вне поля зрения Славы готова была вспылить по любому поводу. Я приобрела такие традиционные атрибуты неразделенного чувства, как бледный цвет лица и серые унылые круги под глазами, я стала выпадать из своих любимых домосваренных джинсов и каждую неделю проделывала в ремне новую дырочку. Хотелось как-то отвлечься.
Слава теперь редко появлялся на лекциях, все пропадал где-то по репетициям или просто шатался по городу наедине со своей беспредельной любовью. Иногда он приглашал меня разделить эти его одинокие восторженные хождения по весенней Москве, бледно-зеленой от первой листвы, полной смешанных запахов бензина и возрождения, но я все время отказывалась, говорила: ты что, сессия на носу, не хочется оставаться на осень. И я действительно стала усиленно учиться, зарылась в толстые книжки по «цепям и сигналам», по физике и высшей математике. Со вниманием слушала туманные речи преподавателей, почти ничего в них не понимая, старательно зарисовывала в тетради хвостатые формулы и фрагменты схем «электрических принципиальных», рассчитывала что-то там по тригонометрии. Наши оставшиеся от первого курса девчонки, три неразлучные Лены, пришедшие в институт после техникума, где они четыре года отучились в одной группе, периодически спрашивали меня: