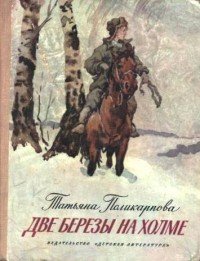Женщины в лесу - Поликарпова Татьяна (лучшие бесплатные книги .txt) 📗
Косточки пальцев словно бы мозжило, они плавились, таяли, и сами руки и пальцы как бы исчезли, осталось одно длящееся прикосновение, которое исчезнувшие, истаявшие пальцы поддерживали, возобновляли, сплетаясь и расплетаясь…
И было совершенно очевидно в эти мгновения, протяженные словно вечность, что наше тело только орудие, только инструмент, которым душа познает саму себя и весь мир. Но Ева, хотя и учила диалектический и исторический материализм, хоть и чувствовала, как вся она уже перетекла, переселилась в свою правую руку, живущую в руке Адама, все же, как всякая женщина, оставалась в понятиях своих несколько метафизичной: она считала, например, что часть меньше целого. То есть, переживая с такой оглушающей силой встречу всего лишь одной своей руки с рукой Адама, она подозревала, что супружеское сближение может их обоих — ее-то наверняка — испепелить, уничтожить или, в лучшем случае, изменить так, что и весь мир станет совсем другим. Каким, она не могла бы сказать даже в общих словах: лучше или хуже. Достаточно и того, что другим.
С той поры — со времени изучения философии — прошел целый семестр, и за это время Адам и Ева далеко продвинулись вперед, то есть обнимались и целовались до испепеления, но Ева все больше убеждалась: им с Адамом нужно уехать куда-то очень далеко от их города, от всех людей, которые их знали. Нужно увезти его в иную сторону и только там, в этой иной стороне, и самой стать иной — стать настоящей женой Адаму.
Об этом не говорилось или почти не говорилось. На безмолвно кричащее «почему?!» Адама она только шепнула однажды: «Мы уедем. Мы далеко уедем». И он понял.
Но все-таки еще здесь, в городе, им пришлось зарегистрироваться в загсе. Чтобы их распределили на работу вместе.
Распределение прошло гладко, никто ни о чем не догадался, кроме комиссии, конечно, которой пришлось предъявить брачное удостоверение.
Зато натерпелись они страху, когда ходили в загс. Они пробирались туда по разным переулкам. Уж об этом договорились без спору: загс располагался на одной улице со студенческой столовой, так что свои ребята попадались то и дело.
— Еще будут спрашивать: «Ой, вы поженились?!» — пугала Ева Адама.
И Ева развивала свою любимую мысль:
— То были, как все, студенты, а тут вдруг муж и жена! И для чего эта регистрация придумана!
Роль рокового яблока, сблизившего супругов, в нашей истории сыграла ссора. Поссорились так, что, казалось, невозможно помириться. Ясно же, что при их отношениях это должно было случиться рано или поздно.
Однажды прекрасным майским днем, в воскресенье, Адам пришел к Еве. Бабушки дома не было, и Адам нежно обнял свою (абсолютно свою, даже по закону свою!) Еву. Ее нежная спина гибким тростником прогнулась под его руками. Ева глубоко вздохнула и прижалась щекой к его щеке. Но вот Адам почувствовал, как тростник в его объятиях уподобляется стальному стержню, жестко выпрямляясь.
— Адам, — шепнула Ева, — я ждала тебя, чтобы сказать: мне нужно уходить. Радде плохо, она зовет меня.
— Почему ты сейчас об этом?
— Потому что вчера не успела додуматься. Ты же перед самым уходом поздно вспомнил, о чем просила тебя Радда.
Адам угрюмо молчал.
— Ну, Адам! — дотронулась до его руки Ева. — Когда ты вчера ушел, я сразу поняла, как ужасно, что я забыла о Радде.
Она говорила о своей подруге. Подруге не по названию или времяпровождению, а по сути. Но этой весной, занятая Адамом, Ева давно не была с Раддой, как, бывало, раньше: спокойно, не торопясь, без оглядки на время… Видеть мир глазами друг друга, радоваться, спорить, подтрунивать друг над другом… А теперь Ева инстинктивно сторонилась подруги: ведь то, что с ней происходило, невозможно рассказать даже Радде. Новый мир еще только творился, он был, и его еще не было. И с ужасом Ева понимала, что Радда, ее Радда, становится посторонней…
Вчера ночью после ухода Адама Ева обдумывала его слова: «Встретил Радду. Ей плохо». И поняла их как приговор своей былой жизни. Впервые прямо, не лукавя с собой, осознала, как много Адам уже занял в ее жизни, как уменьшилось в ней то, что было Раддой.
Лежа этой ночью без сна, Ева чувствовала, как словно бы сильное течение относит ее от привычных берегов, от Радды, куда-то в неведомое. И там, в новой дали, пока виден один Адам. Один.
За ночь чувство вины перед Раддой созрело: «Я нужна ей, а думаю о своем», — ужаснулась Ева своему эгоизму.
И сейчас, отстранив Адама и твердо глядя ему в глаза, сказала:
— Мы расстанемся до вечера. Я пойду к Радде. Вернусь часов в… н-ну… в ш… пять…
Она намеревалась сказать в шесть. Но, увидев, как темнеет лицо Адама, как сходятся к переносью его черные брови, на ходу изменила намерение: приду в пять.
— Ну, ты можешь пойти и позднее, — веселее сказал Адам и снова обнял ее, и брови его разошлись, а лицо просветлело.
— Ты сам сказал, что Радде плохо. — Ева выскользнула из его рук и, обернувшись к зеркалу, стала причесывать свои пышные светлые волосы.
— Ева, оглянись: мы одни, — тихо сказал Адам, и в голосе его была тоска.
— Мы еще много-много раз будем одни. Совсем одни, ведь так, ведь так, Адам? — страстно прошептала Ева, но не шагнула к нему, а только обернулась вся, резко обернулась, так что волосы взлетели и упали на плечи.
Лучше б она не шептала эти слова, а сказала их громко и твердо. Наверняка невидимый Змий внушил ей этот шепот. От ее голоса в Адама словно вселился бес, некая злая сила.
— А я хочу, чтоб ты осталась сейчас! — закричал он гневно, но в гневе его слышалась боль. И от этого на сердце у Евы стало немного полегче: гнев, боль Адама, которую причинила ему она, Ева, как-то уменьшили ее вину перед Раддой.
Если б Адам знал, как его боль ранит ее саму, как хочется ей остаться сейчас с ним, только с ним! Но, видно, Адам так был переполнен собой, что не слышал ее, а значит, не понимал.
— Ты кричишь, — с безмерным удивлением сказала она, отступая от него за стол, — но ведь я сказала, что вернусь… В пять…
— Нет! Ты не вернешься больше! — закричал Адам, видя, что она, обежав стол, бросилась к двери. И, схватив подвернувшийся под руку стул, грохнул им с размаху о стол, помешавший остановить Еву.
А она выскочила на лестницу, потрясенно чувствуя: все пропало! Все!!
Она бежала к Радде, неся как искупительный дар свою ссору с Адамом. Она бы чувствовала еще большую вину перед Адамом, представляя себе, каково ему сейчас там одному, если б самой не было так больно и так плохо. Утешала же себя Ева давнишним, выверенным средством всех женщин: «Если любит, помиримся».
Но дни шли. Длинной вереницей. Один. Второй… Наступил третий, а они всё жили. Да, жили! Со стороны это было особенно заметно: когда Адам будто между прочим спрашивал у знакомых: «Как, мол, там Ева?» — то в ответ слышал: «Ничего, хохочет, как всегда».
«Ничего, — отвечали и Еве, — нормально. Сегодня в волейбол играл».
Наверное, эти ответы, подогревая обиду, и давали им силы жить.
На третий день Ева поняла: пора… Она не была бы Евой, если б не поняла: срок вышел. И передала с верным человеком записку для Адама, наказав спрятать ему под подушку, если самого не будет в общежитии.
Шел десятый час вечера, когда Адам, сжимая записку в кулаке, сунутом глубоко в карман, стукнул в дверь к Еве. Смятая бумажка была стиснута в кулаке, а слова, написанные на ней, голосом Евы бились в мозгу: «Когда бы ты ни пришел, я жду тебя дома».
Кроме этих слов, ничего не было в его голове и сердце. Только эти слова были жизнью. И надеждой, которая питает жизнь.
Он не думал о том, что будет, когда они увидятся. И она этого не знала, когда услышала его стук и шла открывать дверь. Только почему-то сняла с вешалки бабушкин шерстяной жакет. Значит, все-таки знала, что дома они не останутся, раз взяла этот жакет.
И вот они увидели друг друга. И остались жить. Но потрясение было так велико, что они не смогли поцеловаться или обнять друг друга. Они взялись за руки (одна рука Адама по-прежнему согревала в кармане записку) и пошли.