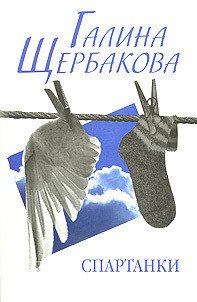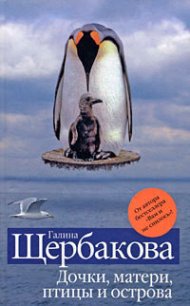Спартанки... блин... - Щербакова Галина Николаевна (читать книги онлайн бесплатно полностью TXT) 📗
Подумалось, не взять ли собаку? Но как подумалось, так и раздумалось. «Мне хорошо одной, особенно теперь, когда за окном перекликаются какие-то птицы. Мне никто не нужен. Я у себя самка». Она поперхнулась этим неверным словом. Какая же она самка, если она категорически и принципиально са-ма? Одна у себя. И ей никто-никто не нужен. Выставись хоть тысяча самцов.
Она благодарила судьбу за счастливые для нее смерти. Элизабет и мужа. Ну, с первой все ясно, за что и почему. Но как был бы некстати при ее деньгах муж! Разве ему можно было бы сказать об охранном ящике (какое точное в ее случае определение), о том, как на раз, одни поворотом ножа она он открылся. Сто лет пришлось бы объяснять ему, дураку, что там осталось достаточно и для дочери, а у нее это, можно сказать, единственный случай в жизни стать женщиной и купить трусы не «с земли у несчастных белорусок», а в магазине под названием «Миловица». Разве этот дурак смог бы понять разницу? Она сейчас ходит гулять «к волку» не в том, в чем она ходит на работу, и был случай: проходил знакомый милиционер, глаз на нее бросил – и мимо. Не узнал. О, какая это радость была – остаться неопознанной, неузнанной, а потому и свободной. Идти и думать мысль о всех этих стряпухах замужем и не замужем, о всех зацикленных на мужиках бабах. Ни о чем ведь не думают, кроме них. Они в «Миловицу» зайдут на раз ради нового хахаля, а она – для себя самой, любимой и единственной. И ей дышится легко и чисто. Жизнь крутила, мяла, но, черт возьми, удалась же! И Никонова только ей известным жестом незаметно поправляет непривычно скользящие на теле нежнейшие трусики. Но она их приучит к месту. Подтягивать приходится все реже.
Маша тоже переехала – в квартиру матери. Она взяла с собой только цветок герани, предварительно проверив в горшке наличие пакета. Она ведь и бежала из своей квартиры, потому что боялась: ушлая Настя заметит ее жизнь землеройки и ограбит ее как пить дать. Так и ехала в метро с завернутым горшком, беженка судьбы и страха.
Все в материной квартире, даже покрытой пылью, выглядело стильно и красиво. Умела та жить. «Умела, потому что все для себя, – думала Маша. – Я едва замуж вышла – и за порог. Мать же все о себе, все о себе».
Маша не стеснялась этой своей уже бесполезной злобы. Даже мысль «Вот, мать, я в твоем гнезде, одна чирикаю» не пробуждала в ней ни жалости, ни сожаления, ни, Боже мой, благодарности. Мать и в гробу все равно оставалась виноватой перед ней. Даже за то, что у этой чувырлы Насти в брюхе сидит дитя. И она, Машка, не уверена, запихнул ли его туда малолетний Васька или кто другой. Она ему до последних дней терла спину и видела такой бессильный стручок, что даже полезла в книжки смотреть, годится ли к росту и развитию такой перчик. Ее собственный опыт был никаким. В пионерском лагере на нее напал в лесу вожатый. Было больно и противно. Поэтому муж Петька был, по сути, первым. И ей снова было больно, и снова противно. Ну, потом дело наладилось, и все было как у людей. Хотя как у людей – она не знала. Некоторые, говорят, «улетают». Мать выдала ей без комментариев презервативы, те почему-то у них лопались, в результате Васька сумел проскочить сквозь дырку.
После мужа она бросилась во все тяжкие. Кидалась в секс как в спасение от обиды, от измены. Помогало редко, чаще нет, три аборта со стороны испортили ей характер, а потом появился этот призрак СПИДа, испугалась до мокрых штанов, а безмужняя мать в это время расцветала от любовников, как роза в саду ангелов.
– Я нагуляюсь, – говорила мать, – за свою молодую целомудренность и за жизнь с твоим отцом-импотентом и выйду напоследок замуж за богатого короля этого дела. И он появился, такой. То ли журналист, то ли писатель. Они вели очень наглядную жизнь – выставки, театры, рестораны, пока однажды тот куда-то не канул. Но тогда от нее уходил Петька. Они оказались с матерью в одной ситуации, с той только разницей, что Машку душили ненависть и злоба, а мать – отчаяние и ревность. Никто никого не жалел, никто никому не сочувствовал. Машка так и осталась с черной дырой в себе, а мать, поскулив-поскулив, сделала подтяжку, накупила себе модных шмоток и пошла вперед и выше. Только раз, отдавая, как у них было принято, Машке то, что уже вышло из моды, мать сказала: «Никогда его не прощу, пока не приползет на полусогнутых». «А такое возможно?» – удивилась Машка. «На свете, глупая моя дочь, возможно все и даже больше. Надо уметь ждать и оставаться во всеоружии собственной силы». – «Но говорят, сила женщины в ее слабости?» – «Забудь! Надо быть сильной, уверенной в себе и независимой материально, и мужик придет и станет к ноге. Поверь, эта сволочь еще будет у меня есть с рук. От таких, как я, не уходят». Мать в это свято верила: «к ноге и с рук».
Дома, примеряя на себя материны одежки, Машка примеряла и материнские мысли. Откуда у той такая пафосность? Вот ее Петька ушел, и у нее и мысли нет, что он назад хвостом застучит. Эссеист же тоже не торопился, слинял в какую-то заграницу и с концами. Почему-то Машке это было приятно. «Единственная правда – это независимость и уверенность», – твердила мать. Это, конечно, немало, но куда денешь годы? Матери пятьдесят семь, и что бы она с собой ни делала, столько на лице ее и написано. Хотя, конечно, Машка по сравнению с ней в пролете. Ей всего тридцать шесть, а малолетки из песочницы кричат ей: «Баба, кинь мячик!» Убила бы.
У нее по-прежнему не работала охрана квартиры. Она вызвала мастера. Тот ковырнул ящик отверткой, и оттуда выпал целлофановый пакетик.
Машка стояла рядом и поймала его на лету.
– Это, – затараторила она, – мать-покойница прятала то там, то сям партбилет. Мало ли, говорила, что будет завтра? А он у меня сбережен. – Ей не было стыдно говорить такую чушь, мать сроду не была в партии, но ведь давно известно, глупость и дурь выглядят куда как убедительней правды.
– Не дождалась бедолага, – засмеялся мастер. – Надо было бы его с ней и зарыть.
– Так откуда ж я знала, где он? Она его перепрятывала. Конечно, положила бы на грудь.
Мастер ушел, исправив поломку, стоившую ей приличную сумму. Машка, едва закрыв дверь, вскрыла пакетик. Там лежала сберкнижка на ее имя с очень хорошими деньгами и доллары в чистом виде.
Когда на голову сваливается такое счастье, его можно и не пережить, и Машка потеряла сознание.
Никто не дул ей в лицо, не брызгал водой, оклемалась сама. Она лежала на полу, рядом с диваном. Тела не существовало. Зато сердце оглашенно билось в горле, а мозг со скрипом выдавливал мысль, что теперь Ваське не надо жениться на беременной, она в силах откупиться и от Насти, и от армии. Мысль была крепкая, живучая, она подтягивала к себе и остальные, уже мелкотравчатые мыслишки типа купить хороший музыкальный центр и танцевать под него, танцевать. Она так любила это в детстве и была бита за это матерью, потому что, кружась по комнате, пару раз сбивала безделушки, например, двухцветную пластмассовую негритянку. Статуэтка раскололась по стыку красного платья и черного тела, и мать стала причитать над убиенной, будто это невесть какое сокровище. Черт знает, почему вспомнились эти две половинки.
Маша приподнялась и вползла на диван. Ее глаза были как раз напротив двери на балкон, на который вышла в последний раз мать. Сказалась то ли только что пережитая близость к собственному концу, то ли пробуждение в беспамятстве давно закопанных естественных чувств, но она заплакала. Она увидела этот крошечный, всего в четыре метра, путь от исполненной силы женщины до ее падения. Как могла сила жить превратиться в свою противоположность, в последний шаг? Первый раз за долгие годы Маше захотелось не отпихнуть мать в грудь, а понять, разобраться в ней, с ней. Застучало в висках, и она зажмурилась от вида балконной двери. Закрытые веки выдавили пару слезинок, и те медленно высыхали на щеках.
Они спали на оттоманке, хорошо продавленной в середине. Ночью они скатывались в ложбину, и Васька считал, что большего счастья не бывает. Однажды он застал Настю за встряхиванием старых одеял: девчонка хотела выровнять ложе. Откуда ему было знать, что накануне мать встречалась с Настей и прямо спросила девчонку, сколько она хочет за аборт и отказ от Васьки, чтоб он ее больше в глаза не видел. Машка была натянута, как струна, такой ее Настя не видела.