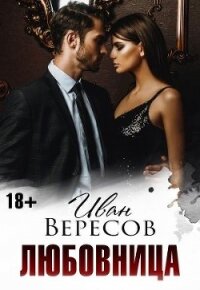Пианист. Осенняя песнь (СИ) - Вересов Иван (книги хорошем качестве бесплатно без регистрации .TXT) 📗
Теперь Мила знала о нем гораздо больше. И намного больше других. Вадим показал ей то, что сохранял в себе, не раскрывал. С ней он был другим. Не таким концертно-недоступным, а простым, она бы сказала “домашним”, но где тот дом? И все же… Мила знала, каким он бывает в минуты страсти и освобождения или милым и смущенным наутро после…
Нельзя об этом думать! Нельзя, нельзя, нельзя!.. Оборвала она свои воспоминания. Никакого права нет у неё на Вадима. И даже знать вот это все. А разве забудешь? Что там дальше он говорил? Перед самым концертом было! Мила всматривалась в лицо Вадима, пыталась уловить за его словами хотя бы тень, намек на то, что он думал о ней.
“А сегодня какой будет концерт, обычный или божественный?” — спросил парень журналист. Он явно пытался смутить Лиманского. Но ничего у него не получалось.
“А вот не скажу, — рассмеялся Вадим, — это наша внутренняя кухня, зрительный зал всегда рассчитывает на божественное вдохновение”.
“Третий концерт Рахманинова — это любимое? Та музыка, которую вы бы играли каждый день?” — продолжал приставать журналист. Мила уже сердилась на него. Что за дурак!
“Я бы играл, но недолго, это слишком сильные эмоции, нельзя все время смотреть на солнце — ослепнешь”, — отвечал Лиманский.
“А в случае с третьим концертом?”
Это же надо быть настолько бестактным! Мила даже вслух сказала:
— Идиот!
Но Вадим оставался спокоен. Продолжал отвечать с откровенностью. Не смутился.
“Сойдешь с ума, душа разорвется”.
“Значит, нет безраздельного предпочтения?” — Миле уже хотелось разбить ноутбук об стену.
“А можно я спрошу?” — Вадим все-таки пошел в наступление. Сейчас он отчитает этого наглого парня. Тот уже хвост поджал. Глаза отвел.
“Конечно, спрашивайте”.
“Сколько вам лет?” — Вот! Без году неделя, а полез брать интервью у Лиманского. Кто он, а кто Лиманский!
“Двадцать один”, — еще больше смутился репортер.
Вадим помолчал, посмотрел прямо в камеру, и у Милы сердце зашлось, как будто он в глаза ей заглянул.
“Еще лет десять вы будете искать безраздельное предпочтение и доказывать свою правоту, потом начнет приходить понимание, что… предпочтение — это не константа. В мире много такого, о чем мы даже не догадываемся, не успеваем узнать. Может быть, существует музыка, которую я не слышал, и она лучше всего, что я когда-либо слышал, но я не встречусь с ней. А бывает случайно встречаешься и понимаешь: все, что было ценным "до", на самом деле — несущественно”.
Почему? Почему он сказал это? ”Случайно встречаешься и понимаешь…” О них сказал? Да?! О них…
А потом он встал и пошел к роялю.
“И все же я отвечу на ваш вопрос о безраздельном предпочтении, только не словами”.
И он заиграл… и Мила узнала осенний Павловск, их нежданную и нежную любовь. И вальс падающих листьев, и печаль расставания. Все, что было с ними. Она поняла, что он для неё играл это. Для неё! Значит, и потом, на концерте… И он звонил ей в антракте!
— Боже мой, какая же я дура!
Мила облокотилась о стол, упала головой на руки и зарыдала.
А в ноутбуке под пальцами Лиманского продолжал рассыпаться бриллиантами быстрых пассажей седьмой вальс Шопена.
Так её и застала Тоня, увела домой.
Глава 7
Теперь к терзаниям Милы добавились новые. Она постоянно думала о том, что было бы, если бы…
Если бы она включила телефон в антракте…
Если бы она не оставила мобильный на лавочке в сквере… Если бы подошла к Лиманскому после концерта… Всего и надо было пройти вперед до сцены. Шесть рядов партера, и тогда…
Но ничего этого не могло быть, потому что в любви, да и в жизни, “если бы” никак не работает. Мучительное сознание вернуть хоть что-нибудь изводило Милу.
Тоня приставала с советами, предлагала разыскать его. Найти телефон или электронную почту через филармонию.
— Ну люди же там! Скажем, что дальняя родственница, потерялись, а тут нашлись. Неужели откажут? — трясла она Милу. Та лишь горестно качала головой и замыкалась в себе.
Неожиданной отдушиной стала та самая инсталляция в цветочном магазине. Мила увидела во сне, как падают листья, золотые и красноватые… Павловск… Осень… И Мила решила повторить свой сон, сделать его осязаемым. Отделив место в торговом зале, она начала работу. У неё не было всего, что хотелось, например, уменьшенной копии статуй из Старой Сильвии, но Мила заказала их в картонажном кружке. У неё были знакомые художники, которые вели его во дворце творчества юных — так теперь назывался бывший Дворец пионеров. Суть его осталась прежней. Кружки и секции. И вот туда Мила пришла со своими идеями о “кусочке осеннего Павловска”. Художники её поддержали, и Мила вместе с ними начала работать над странным проектом. Делали все своими руками.
Мила придумала листья: роспись по шелку и одиночные, которые можно было подвесить на нитях, создавая ощущение падающих. Ребята из дворца творчества предложили сделать инсталляцию с движением, подключили кружок юных техников. И вот шелковые листья затрепетали от легкого ветра. Но все еще чего-то не хватало!
Вечерами Мила включала записи Вадима, она слушала и слушала, как он играет. А руки её не были праздны: Мила расписывала и вырезала, составляла композиции и букеты… Осень… Осень… Осень…
В один из вечеров поняла, что не хватает музыки Вадима. Его волшебной игры, такой понятной для неё теперь, родной, невероятно печальной и страстной. Это должно звучать!
— Это должно звучать! — воскликнула Мила и с того момента уже не представляла свою инсталляцию Павловска безмолвной.
Она втянулась в собственную иллюзию, Миле казалось, что воссозданный кусочек того осеннего мира, того дня их встречи — всё, что у неё есть. Листья шелестели и покачивались на ветру, и звучал рояль. Играл Вадим — она выбирала только его записи и то, что ей нравилось.
Мила ничего не понимала в музыке, она слушала и говорила себе: “Вот это и вот это подойдет. Здесь он печалится, а тут вспоминает что-то хорошее… а вот здесь — это любовь…”
Картина Павловска в цветочном магазине представляла собой часть Старой Сильвии со статуями Талии и Мельпомены и той дорожкой, что вела к каменным руинам амфитеатра и обрыву. Внизу открывался изумительный ландшафт английского парка — изгиб русла Славянки, и вдали башня Шапель… Мила с художниками пересмотрели множество иллюстраций, сначала хотели использовать фотографии, но потом сошлись в мнении, что лучше будет написать все фоны, используя фото. Нарисованный Павловск оказался более живым, чем запечатленный на фото. Мистическим, таинственным.
У Милы получился как бы грот с расписанными стенами и задником-перспективой, а перед ним выставляли букеты. На полу, на лестницах-стремянках. Мила составляла букеты, которые гармонировали с шелковой осенней листвой. И еще она нашла и заказала шары-сувениры. Не зимние, а такие, как Вадим подарил ей, — с листьями.
У художников были друзья на местной телестудии. Сняли репортаж, запустили рекламу. И неожиданно народ пошел посмотреть. Слухами земля полнится, скоро люди стали спрашивать друг у друга: “А вы видели уже Осенний грот?“, и посетителей в магазине все прибавлялось. А когда Ирина Петровна милостиво разрешила рядом с букетами выставить и картины — цветочный салон превратился в арт-галерею. Милу это радовало. Ей казалось: чем больше людей услышат музыку Вадима, подумают о нем хорошо, мысленно выразят благодарность — тем будет лучше ему. Ведь она делала все для него.
А время шло, золотая осень превратилась в позднюю. В парках и скверах оголились деревья, листья опали и сбились в мокрые кучи, и ничто уже не напоминало о прощальных солнечных днях. Дождь бесконечно полз по стеклам витрин, и только в цветочном магазине оставался еще нетронутый мирок Милы. То место, где она прятала и хранила свою любовь к Вадиму.
После закрытия Мила оставалась, включала музыку громче и слушала, слушала. Ей начинало казаться, что Вадим говорит с ней, рассказывает о своей жизни. То, о чем никогда бы не сказал в интервью журналистам. Было в нем много больше. Мила стремилась понять. Дома она смотрела записи и замечала, что молодой Лиманский играл иначе, она не могла объяснить, в чем заключалось различие. В его исполнении было больше азарта, яркости — может быть, чуть показной, — он не хвастался, лишь говорил: я могу. Радовался этому, своему мастерству. Не самолюбование, а именно радость. И казалось, ничего не существует для него, кроме музыки. Он отдавался ей, служил, любил, дышал для неё. Наверно, женщинам тогда не было места с ним рядом. Ни одна не смогла бы соперничать с музыкой. В этом причина его теперешнего одиночества? Или что-то еще?