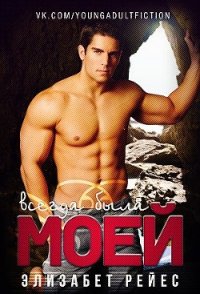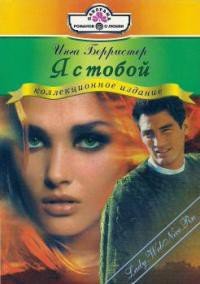Будуар Анжелики - Жетем Валери (книги бесплатно без .TXT) 📗
— Но должен же существовать какой-то эталон для измерения добродетелей и пороков, — проговорил Томас Гоббс. — Единый критерий оценки явлений бытия. У нас в Англии говорят: «Если двух дураков посылают в церковь, одного нужно выбирать старшим».
— А под теми двумя дураками вы, мистер Гоббс, имеете в виду жениха и невесту? — спросила с самым невинным видом Луиза.
Все рассмеялись.
— Увы, — покачал головой Томас Гоббс, — пока люди живут без общей власти, держащей их в страхе, они находятся в том состоянии, которое называется войной всех против всех. Такова природа любого человека, увы…
— Но страх скорее возбудит пороки, — возразил Спиноза, — нежели их исправит. Впрочем, как и любая другая попытка подогнать людей под какой-то единый трафарет.
— Эти попытки не так уж редки, — заметила Ортанс.
— Увы, сударыня, — вздохнул Спиноза.
— Да, короли чеканят людей, как монету, — проговорил Ларошфуко. — Они назначают им ту цену, какая им заблагорассудится, и все вынуждены принимать этих людей не по их истинной стоимости, а по назначенному курсу.
— И нет никакого выхода? — спросила Ортанс.
— Есть, — ответил со вздохом Ларошфуко. — Нужно либо переплавиться, либо затеряться где-нибудь в пыли и грязи, а в противном случае — безоговорочно принять тот порядок вещей, который установил чеканщик.
— М-да, — произнесла со вздохом Анжелика, — невеселая перспектива, что и говорить…
— Зато, — прищурил глаз Джон Локк, — как должно быть приятно монетам находиться в богато расшитом кошельке! Это непередаваемое ощущение могущества, славы, роскоши… Чужой, разумеется…
— Монарх, окруженный роскошью, — это пастух в одежде, усыпанной золотом и каменьями, с золотым посохом в руке, с овчаркой в золотом ошейнике, на парчовой или шелковой сворке. Какая польза стаду от этого золота? Разве оно защищает его от волков?! — выпалил Лабрюйер.
— Этот вопрос к стаду или к пастуху? — с улыбкой спросил Ларошфуко.
— К… пастуху, — ответил юноша, заметно смутившись.
— Бесполезно, — резюмировал Ларошфуко. — Бессмысленно, безрассудно и… и так далее. Ни на солнце, ни на смерть нельзя смотреть в упор.
— И на то… «Солнце»? — спросила Луиза.
— Тем более, — отрезал Ларошфуко. — Самым роковым образом заблуждаются те, кто из кожи вон лезет, желая приблизиться к светилу. Они или феноменально глупы, или же до неприличия невежественны, ибо не знают общеизвестного мифа о человеке, опалившем таким образом свои восковые крылья.
— Это Икар, — сказала Луиза.
— Благословен дом, под кровлей которого сегодня собралось столько очаровательных и образованных женщин! — воскликнул Томас Гоббс. — Но, к сожалению, — добавил он, — мы с мистером Локком должны оставить это приятное общество, так как именно сегодня господин Мольер представляет своих «Смешных жеманниц», и я решил воспользоваться случаем дать возможность мистеру Локку увидеть этот шедевр, пока он еще не запрещен.
— Запрещен? — удивилась Луиза. — Но почему? За что?
— Если кто-то более других склонен к изумлению, то он обладает либо меньшими знаниями, чем другие, либо более проницательным умом, — улыбнулся старый философ.
— События в Версале развиваются довольно стремительно, — пояснил Джон Локк, — и кто знает, не увидит ли себя среди мольеровских жеманниц новая постоялица королевской кровати…
— Да, это весьма и весьма вероятно, — согласился Спиноза. — И если бы мистер Гоббс был так любезен…
— Дорогой мой, можете считать себя уже сидящим в ложе, которую я заказал столь предусмотрительно!
— Но при этом вы покидаете нас, — проговорила Анжелика.
— Не все, — сказал Ларошфуко, — не все, сударыня. Мы с моим молодым коллегой отчаянные оптимисты и полагаем, что либо у новой постоялицы королевской кровати не хватит ума, чтобы узнать себя в «Смешных жеманницах», либо у нашего короля хватит ума не заходить столь далеко. Так или иначе будем надеяться на лучшее из вероятного.
— Это все же лучше, чем надеяться на возможное из желаемого, — улыбнулся Джон Локк.
Затем он, Гоббс и Спиноза откланялись и покинули будуар.
Проводив гостей, Анжелика присоединилась к общей беседе, вернее, к процессу, который заключался в том, что дамы настойчиво осаждали Ларошфуко подобно борзым, окружившим оленя на лесной опушке. Однако знаменитый острослов не очень-то напоминал загнанного зверя, напротив, скорее могучего медведя, снисходительно играющего с медвежатами.
Лабрюйер с интересом наблюдал эту сцену, впитывая каждое слово мэтра, который в данный момент изрекал следующее:
— Умный человек нередко попадал бы в затруднительное положение, не будь он окружен дураками.
— Это намек? — спросила вошедшая Анжелика.
— О нет, сударыня! Во-первых, мои намеки никогда не бывают столь прозрачны…
— А во-вторых?
— Я отнюдь не считаю себя умным.
— Самоуничижение — то же лицемерие, — заметила Ортанс.
— Лицемерие, сударыня, это не более чем дань уважения, которую порок платит добродетели.
— Вы действительно верите в добродетель? — спросила Катрин.
— Почему бы и нет? Ведь наши добродетели — не более чем переодетые пороки.
— Неужели все? — недоверчиво спросила Мадлен. — Даже такая бесспорная добродетель, как верность своему долгу?
— Мы храним верность долгу нередко из лени и трусости, а все лавры за это достаются нашим добродетелям.
— Выходит, человека вообще не стоит уважать за что бы то ни было? — спросила Анжелика.
— Смотря чьего именно уважения мы добиваемся. Например, порядочные люди могут уважать нас за наши достоинства, а вот толпа — только за благосклонность судьбы, за что-либо явно незаслуженное, потому что уважать можно только за то, чем обладаешь сам.
— В таком случае вам, ваша светлость, едва ли стоит рассчитывать на уважение короля, — не без ехидства констатировала Луиза.
— Как я могу сожалеть о том, в чем не испытываю нужды? Кроме того, если великие мира сего не в состоянии дать человеку ни телесного здоровья, ни душевного покоя, то все их благодеяния он в таком случае оплачивает по слишком дорогой цене.
— Зачастую даже не догадываясь об этом, — добавила Ортанс.
— Не задумываясь, — поправил философ. — Это ведь вовсе не одно и то же. Впрочем, те, которые задумываются, но при этом не догадываются, едва ли достойны сочувствия.
— Но разве не покоряют такие аргументы, как могущество, блеск, величие? — спросила Катрин.
— Величие? — переспросил Ларошфуко. — Зачастую его успешно подменяет величавость. А величавость — это всего лишь непостижимая уловка тела, придуманная для того, чтобы скрыть недостатки ума.
Дамы наградили эти слова аплодисментами.
— А почему вы не принимаете участия в беседе, мсье де Лабрюйер? — спросила Мадлен.
— Чем меньше человек говорит, — ответил юноша, — тем больше он выигрывает: люди начинают думать, что он не так уж глуп.
— Браво, мсье Жан, — одобрительно кивнул головой Ларошфуко. — Однако должен заметить, что более всего оживляет беседы не ум, а взаимное доверие, в лучах которого я просто купаюсь благодаря этим обворожительным дамам!
— А мы купаемся в сиянии вашего ума, — ответила на комплимент Анжелика.
— О мадам, ум всегда в дураках у сердца несмотря на все ухищрения выдать себя за него.
— А страсти, они рождаются в уме или в сердце? — спросила Катрин.
— Если это действительно ум, то нет, конечно же, в сердце. Но сердце зачастую бывает властелином ума, и поэтому так опасно доверяться этим темным страстям, которые с легкостью попирают самый светлый разум!
— Выходит, что все страсти — темные? — спросила Луиза.
— Увы, мадам.
— И даже любовь?
Философ в ответ лишь развел руками.
— О, это слишком!
— Мадам, — мягко проговорил Ларошфуко, — молодым женщинам, не желающим прослыть кокетками, и пожилым мужчинам, не желающим казаться смешными, следует говорить о любви так, будто они к ней не имеют ни малейшего отношения.
— Но вы отнюдь не выглядите пожилым, ваша светлость.