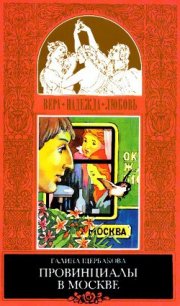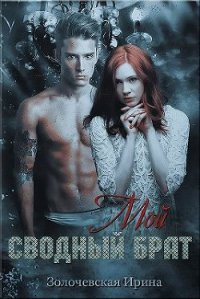Лизонька и все остальные - Щербакова Галина Николаевна (онлайн книга без .txt) 📗
Все просто. Только потому, что Леля жила так, как в представлении Нюры и надо жить, но ей, Нюре, дано не было. Ниночка же жила так, как могла бы жить и Нюра, если бы закабалила себя хозяйством и с утра до ночи, с утра до ночи головы не подымала от скотины и грядки. Нюра этот труд тоже всю жизнь делала, но терпеть не могла эти прополки, эти дойки, эти прививки, ведра, сита, чугунки, кринки на заборе. Когда давным-давно папенька отводил ее в церковно-приходскую школу, он ей говаривал:
– Нюрочка! Детка! Учись хорошо. Определю тебя в гимназию, будешь жить в городе в каменном доме. Даст Бог, станешь мещанкой, а дети твои пойдут еще выше… Станут служащими или учеными.
У Нюры все лопнуло из-за смерти ее матушки. Даже церковно-приходская школа осталась неоконченной. Нюра, простой человек, приняла жизнь, какая она есть. Нет так нет, что в мещанах-то хорошего? Да и смогла бы она жить в городе? Оказалась, в конце концов, все-таки в городе. Мужняя жена. Жена бухгалтера, выбившегося из крестьян. Таково социальное положение. А вот Леля скакнула так, что исполнила мечты и папеньки, царство ему небесное, и ее смутные неисполнившиеся желания. Да, она хотела бы такую же деревянную кровать, как у Лели, с полированными спинками и розовым шелковым матрацем. Да, она хотела бы такую же шубу, легкую и пушистую, воротничок стойка, широкий манжет, и подкладка вся как есть выстрочена кубиками. Один в один. Хотела бы говорить по телефону, как Леля: «Уважаемый! Экономические вопросы не в моей компетенции. Что же касается вашего партийного досье…» Нюра просто замирала от этих слов. А точнее, она от них хмелела больше, чем от своей притыренной наливки. В жизни Лели был какой-то другой градус, это было, скажем, как жизнь в кино. Неправда, а сердце колотится. Кстати, телефон у Лели был зеленый, а Нюра умом своим считала, что телефоны рождаются только черными, как бывший Розин негр.
Так вот, старая дура Нюра решила подольститься к своей более преуспевшей в жизни дочери и отдать ей то, что осталось у них от того времени, когда вещей и предметов было мало, но они, как говорят современные идиоты-языкотворцы, были со знаком качества. Был у Нюры медальон. Цепочка ушла вместе с обручальными кольцами за манку для Лизоньки в тридцать третьем году, а сам он остался, потому что у него было сломано ушко. Кто-то из знакомых сказал Нюре, что золото теперь дорожает и будет дорожать ого-го, а старинным вещам теперь вообще цены нет.
Нюра тут же приняла решение – отдать медальон Леле. Почистила его сухой содой, обдула со всех сторон, старик и спроси: чего, мол, ты с ним играешься?
– Леле хочу отдать, – важно сказала Нюра. Она была в кабинете Лели всего два раза, но интонации дочери, пронзившие ей сердце, выучила наизусть. «Уважаемый! Ваш вопрос вынесен на бюро. Не могло быть иначе, уважаемый, нас не устраивает ваше кредо».
– Почему Леле? – спросил старик, еще не подозревая, что он ее через минуту ударит, и еще даже не чувствуя в себе токов, которые подымут ему руку.
– Ну, не Ниночке же! – воскликнула Нюра. – Куда ей-то? Свиньям показываться?
Нет, не слово было вначале. Вначале было отношение, побуждение, вначале было легкое колебание Нюриного сердца, ни одному человеку не видимое, но оно было так вразрез, так не в такт колебаниям сердца Дмитрия Федоровича, что надо было что-то срочно предпринять – вот он и ударил Нюру, чтоб войти с ней в унисон, что ли…
– Ты чего? Дерешься? – закричала дурным голосом Нюра. – А в милицию не хочешь?
Совсем черт знает что! Милиция тут при чем? Но это он потом подумает, а пока очередное бестолковое колебание сердца Нюры возмутило старика. Что это старуха вся вразлад пошла? И он ударил ее во второй раз.
Тут она замолчала, как умерла, а старик понял – все. Точка. Никогда больше пальцем ее не тронет, и кинулся креститься, и тут-то увидел осуждающий взгляд Спасительницы. «Ах, не дело это, не дело, – будто бы говорила она. – Это ведь на момент легче становится, а потом хуже будет. Стыдно будет. А что стыдней стыда?»
Старик сказал Нюре:
– Я, конечно, не прав… Но дети равны. Ниночка и Леля. И внуки равны – Лизонька и Роза. Так что выкинь его к чертовой матери или сама носи…
– Что, мне его в гроб с собой брать? – уже своим, не Лелиным голосом заныла Нюра.
– В гробу самое место… Раз из-за него такое с нами случилось…
Нюра спрятала медальон в сумочку, а потом решила: надо его продать и разделить деньги на четыре части – всем девочкам.
…Но не продала. Мы ведь многого не успеваем сделать до смерти. Во всяком случае, Нюра уже лежала в гробу в черном шелковом платье, приготовленном на смерть лет пятнадцать назад, и гипюровой черной косыночке, когда Ниночка полезла зачем-то в ее сумочку и нашла завернутый в бумажку медальон с мелкими комочками соды. Нина – человек решительный. Она тут же пришила медальон к Нюриному платью за кусочек отломанного ушка. Когда откусывала нитку, пришлось прильнуть к остывшей материной груди и почувствовать холодную неживую твердость. Нина завыла громко, по-деревенски, а потом, когда Лизонька отпоила ее валерьянкой, сказала:
– Вот только сейчас поняла, что мамы нету. Притронулась к ней – нету. Нету, и все. Нигде и никогда.
Леля как раз в этот момент ходила оформлять похоронную музыку и всего этого не видела, а когда пришла, на платье что-то сверкает: пальчиками прихватила – пришито. Очки надела, чтоб разглядеть, но, правда, на грудь Нюры не падала, Леля – человек выдержанный.
– Напрасно это, – сказала она Ниночке, – напрасно. Теперь столько мародеров. Отдала бы лучше внучке.
Внучка стояла рядом, ядовитая такая девица лет десяти с большим ртом и на тонких курьих ножках. Это верно. У Анюты, Лизиной дочери, была действительно некрасивая разлапистая ступня, которую Лизонька все норовила «подобрать» и втиснуть в узкую обувь, а девочка обожала носить матерчатые тапки, из которых через три дня обязательно торчал кривоватый нахальный мизинец. Так вот, Анюта хитро хмыкнула – при покойнице-то! – и стала их в упор разглядывать и сравнивать двух бабушек – Ниночку и Лелю. И, судя по всему, они ей обе показались не очень, потому что она, дерзко дернув головой, ушла на улицу, где Лизонька чистила селедку для поминок, а Роза облупливала вареные яички.
– Ба-Нина пришила медальон, чтоб никому не достался, а ба-Леле жал-а-лко… – сказала она.
– О Господи! – вздохнула Лизонька. – Думала, хоть тут обойдутся…
– Анька! Вырастешь в крупную гадину – удушу, – сказала Роза.
– Нас миллионы, – гордо ответила Анюта и ушла от них, даже мосластыми коленками выражая презрение к ним всем.
Уже после похорон и поминок, когда остались своей семьей и решили выпить на ночь хорошего чаю, а то все компот и компот, уже изжога от него, стали искать в доме чай.
Открывали, открывали разные коробочки типа «Кориандр» – пусто да пусто. Ниночка возьми и скажи Леле:
– Завалила стариков коробочным дерьмом, поди разберись, где у нее чай.
– Она не разрешала мне выбрасывать коробки, – зашипела Леля, – ты что – маму не знаешь?
Лизонька тоже что-то искала и обнаружила металлическую коробочку, а там пакет: «Лизоньке, лично в руки». Почерком дедули.
Лизонька так и села. Вот это да! Пять лет как умер дедуля, и никто не спохватился? Она сунула пакет в карман, но это было очень заметно, тогда она положила его на грудь, прямо на голую грудь, потому что только-только устроила себе помывку на улице под жестяным рукомойником и уже не стала надевать лифчик. Чай все-таки нашли, он был в коробочке с иероглифами, чайной китайской коробочке, доставшейся Нюре, конечно, тоже пустой. Пили чай и говорили про то, как могила Нюры тютелька в тютельку заняла все пространство внутри ограды. Будь Нюра женщиной покрупней – хоть караул кричи – не влезла бы. Анюта интересовалась маленькой могилкой – кто да кто, Ниночка и Леля, считай, не помнили Танечку. Господи, когда было?
– Значит, у прадеда с прабабой, как у всех порядочных царей, было три девицы… – сказала Анюта.